
Теймур Атаев
Казнить нельзя помиловать. Кто решает, где поставить запятую?
Неадекватное применение силы…Жесткость…Жестокость….
Почему? Откуда? Как они возникают, формируются, шлифуются, а иногда и поощряются даже теми, кто, вроде как, должен предотвращать их проявления?
Хорошо, допустим, для зарождения желания наказать кого-либо из-за его «неправомерных» (в восприятии наказывающего) действий есть некие «объективные» (в соответствии с его же взглядом) причины. Будь-то месть, «преподание урока» или нечто подобное, причину чего наказывающий (если можно так выразиться) обосновывает личным восприятием мира (безапелляционной убежденностью, что есть хорошо, а что — плохо).
Допустим, опять-таки, что в ком-то фигурирует непосредственно вышеописанный подход к «делу». Но ведь рядом нередко просматривается ситуация, когда жестокость (внутренняя потребность к ее осуществлению) основывается «всего лишь» на ненависти к человеку по его национальному или конфессиональному признаку. Как быть тогда, и возможно ли избежать этого? Да и религия ли несет ответственность за такое течение жизненной канвы?
Сложнейший вопрос, однако. А потому неудивительно, что Иво Андрич, отразивший в своих произведениях массу жизненных реалий, значимых и на нынешнем историческом этапе, не смог обойти эту тему. Причем проблематичность ситуации он продемонстрировал не просто через некий вымышленный сюжет, а, как просматривается, поделившись небольшим эпизодом из своей жизни (рассказ «Дети»).
Ату его!..
«Признанными атаманами на нашей улице» являлись Миле и Палика», последний из которых «по отцу был венгр». Эти ребята «вели яростную борьбу с вожаком соседнего околотка». Как в любой борьбе, — окунается в свое детство герой, от имени которого ведется рассказ, — «мы сталкивались с верностью и отвагой, сомнениями и вероломством, слезами, кровью, изменами и клятвами». Практически ежедневно «атаманы отзывали нас в сторонку по одному и напряженным, глухим голосом» спрашивали:
— Ты за меня?
В один из дней Миле и Палика «позвали меня идти с ними завтра после обеда бить евреев». Подобные «экспедиции в еврейские кварталы совершались несколько раз в год — обыкновенно по нашим или еврейским праздникам», и «никогда раньше не участвовавшему» в схожих «подвигах» была «таким образом оказана большая честь».
Будучи «сам не свой от возбуждения», вскоре он вместе с двумя атаманами вышел для реализации провозглашенной задачи. Оружие было подготовлено заблаговременно: Палика обил гвоздями охотничью палку, а Миле начинил свинцом резиновый шланг, прикрутив его другой конец веревкой к запястью. Ну а андричевскому герою «досталась сломанная жердь, только что вырванная с мясом из какой-то ограды, внизу еще торчал гвоздь, которым она была прибита к перекладине».
Вслед за чем эти трое спустились на улицу, «где обычно подстерегали еврейских ребят и расправлялись с ними». Увидев у фонтана четверых «празднично одетых мальчишек», Палика произнес:
— Вон жидята!
«То ли наш вид показался еврейчатам подозрительным, то ли они уже привыкли к таким нашествиям», но они разом спрятались за фонтан. Внезапно Миле «с пронзительным гиком» бросился на них, ударив одного «своей жуткой дубинкой по руке». Когда же к месту событий подбежали Палика и рассказчик, чье сердце бешено» колотилось, еврейские мальчишки «сломя голову бросились наутек».
Однако «мое внимание было приковано не столько к ним, сколько к Миле, к той стремительности», с какой он «превратился во что-то новое и незнакомое». Его крик и удар «существовали как бы сами по себе, как первые приметы неведомого мне огромного, страшного, волнующего мира, где жизнь каждого висит на волоске, где надо бить и принимать удары, где ненавидят и ликуют, гибнут и торжествуют победу, мира, в котором мне мерещились невиданные опасности и несказанно прекрасные мгновения счастья».
Битва? Сражение? Бой?
Миле и Палика погнались «за беглецами, я — за ними». Те забежали в какие-то ворота, «откуда нам вслед тут же раздались крики и проклятия еврейских женщин». Четвертый из еврейских мальчишек исчез «за какой-то белой стеной», где его пытались отыскать. «Я вдруг увидел два ботинка, судорожно прижатых один к другому. В упоении погоней я рукой поманил Миле и гордо ткнул пальцем в свое открытие». Но подросток-еврей «выпорхнул из своего убежища», помчавшись по двору.
Началась погоня, «в которой еврейчонок то набегал на оружие Палики, то натыкался на резиновую дубинку Миле», хотя им и не удалось «шарахнуть его по голове или по спине». Вскоре они настигли мальчика, и «все трое сплелись в клубок». Но тому удалось вывернуться, и, взлетев по ступенькам, он «неожиданно оказался лицом к лицу со мной»: одна ладонь в крови, голова закинута, как у умирающего, губы белые, глаза пустые, лишенные всякого выражения и давно обезумевшие.
«Тут-то мне и следовало его ударить», — говорит герой И. Андрича. Но…Но… Но… Он не сумел нанести удар, оставшись стоять, как вкопанный. «Что же тогда произошло? Как часто я задавал себе этот вопрос и в те дни, и много лет спустя! И никогда не находил на него ответа». Парнишка «легонько отстранил меня», как «невесомую занавеску», и побежал «по узкому коридору, оставив меня в полном оцепенении, с напрасно поднятой жердью», на конце которой торчал огромный острый гвоздь. «Я пришел в себя лишь тогда, когда мимо, грубо и презрительно отпихнув меня, пробежали Миле и Палика. Я так и остался стоять на прежнем месте», а «еврейский мальчишка удрал».
Результат «невмешательства»
Возвратившиеся Миле и Палика шли, «в мою сторону даже не обернувшись. Я поплелся следом», но когда «попытался заговорить», Палика оборвал:
— Заткнись!
Аналогично он отвечал и на последующие «мои попытки оправдаться». Ну а Миле, «прежде чем я успел что-то сказать», «смачно плюнул в меня, забрызгав всего слюной». В результате «я остался стоять посреди улицы, утираясь рукавом, а те двое удалялись».
Герой-рассказчик признается, что даже с высоты прожитых лет он так и не знает, как «описать первую в жизни бессонницу, муки и терзания из-за презрения атаманов» и «насмешек всей ребячьей уличной ватаги». Каждая попытка «оправдаться» лишь «усугубляла мое положение и обрекала на еще большие унижения и одиночество». Палика «рассказывал всем про мой позор и в лицах карикатурно изображал, как глупо я проворонил жиденка, а ребята, окружив его, громко хохотали и отпускали на мой счет шуточки». Миле не желал видеть и слышать «обо мне». Ребята с других улиц «показывали на меня пальцем», а «я не отрывал глаз от земли, в школе на переменах прятался в уборной и домой возвращался окольными улицами, как прокаженный». Но и тут «я не мог ни с кем поделиться, а тем более попросить защиты или утешения».
Юношу съедали сомнения: «Как я должен относиться к Миле, Палике и остальным ребятам, с которыми я всей душой хотел бы быть равноправным товарищем, а как — к еврейским ребятам, которых, похоже, надо преследовать и бить, а я не могу и не умею этого делать?». Лишь время «как-то сгладило это происшествие, хотя я так и не нашел ответа на свои вопросы». Он помирился с атаманами, которые, однако, его «больше никогда не брали с собой на подобные подвиги».
При этом главному герою иногда снилось «почти всегда одно и то же: еврейский мальчик с мученическим лицом пробегал мимо меня, легкий и неудержимый, как ангел, и я снова пропускал его, не ударив, хотя наперед знал, чем это мне грозит». Или он видел, как стоит посреди улицы, «оплеванный и одинокий под беспощадным светом дня, и время стоит, а товарищи стремительно удаляются». Только намного позже «годы молодости вытеснили этот эпизод из моей памяти. Но это уже было забвение, смерть детства».
Так о чем Иво Андрич?
Оторопь берет от прочитанного. Мастерство описания И. Андричем эпизода приводит к тому, что читатель будто оказывается в эпицентре событий, «внутри» переживаний героя.
Ударить своего ровесника просто потому, что он «чужой» по вероисповеданию и этническому признаку? Но для чего? Во имя чего? Есть ли тут подобие какой-то справедливости? Дело не в том, что «много на одного» и без предупреждения. Речь совершенно о другом. В чем позволительность применения силы по прихоти, так сказать? Откуда ее происхождение? Из семьи? Внешней среды? Городских традиций, передающихся из поколения в поколение?
Для начала, правда, важно обратить внимание на то, что озвученная И. Андричем проблематика получает свое развитие вне мусульманского фона, хотя нередко можно столкнуться с мнением о неафишируемом неприятии писателем ислама. В немалом числе рецензий на произведения И. Андрича, пусть частенько и завуалированно, говорится, что он аккуратно противопоставляет ислам христианству и иудаизму, чуть ли не утверждая о преимуществе западной цивилизации перед восточной. Но если это так, то что мешало мыслителю изобразить атаманами мусульман, продемонстрировав кровожадность, так сказать, юных приверженцев ислама?
Как бы то ни было, на поверхности рассказа «Дети» высвечивается иное «столкновение»: подростки из христианских семей периодически проявляют жестокость по отношению к сверстникам-иудеям. Однако, спрашивается, виновата ли в этом религия?
И. Андрич напрямую данный нюанс не обыгрывает, но весь нерв небольшого рассказа, да и нить повествования, будто призывают осмыслить описанный эпизод. Писатель фактически восклицает: неужели в нашем мире жизнь любого человека оказывается незначительной, т. к. здесь в обязательном порядке необходимо либо бить, либо защищаться? Неужели всем и каждому не хочется жить без искусственных столкновений, когда жестокость затмевает разум?
Параллельно И. Андрич демонстрирует, что применяющий насилие теряет человеческий облик, превращаясь в какое-то непонятное существо, далекое от духовности и морали. Потому и трубит громогласно (посредством великолепного описания сцен), насколько прихоть (на первый взгляд, именно прихоть) может стать площадкой для постепенного лишения жизни тех, кто «не как мы».
Немеркнущий И. Андрич величав, как всегда. И в постановке проблематики, и в прекрасных художественных путях ее освещения. В свете чего нерв рассказа будто вкрапливается в читателя, заставляя сопереживать герою, волноваться за него и даже сопротивляться преподносимому.
А раз мы примеряем одежду рассказчика на себя, то повествование (впрочем, как и все андричевские произведения) фактически о нас с вами. Нашем глубинном. Уверенности и недовольстве собой. Спокойствии и муках. Печалях и радостях. О реалиях жизни, в которой человека создает таким, каким он есть, далеко не его конфессиональная или этническая принадлежность.
В основе же всех этих составляющих слышится однозначный призыв И. Андрича ко всем нам жить в доброте, взаимопонимании и с ощущением чувства локтя не только ближнего, но и дальнего.
Удастся ли?


 Quran
Quran




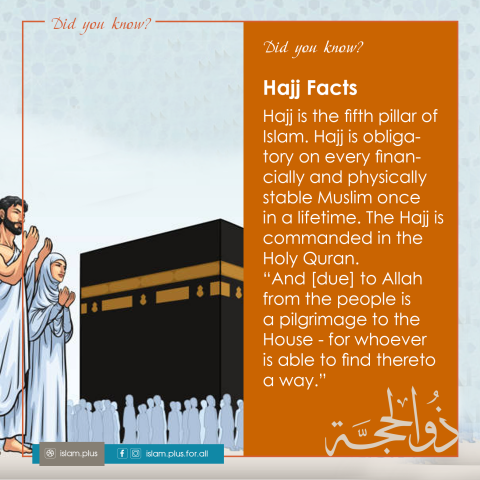
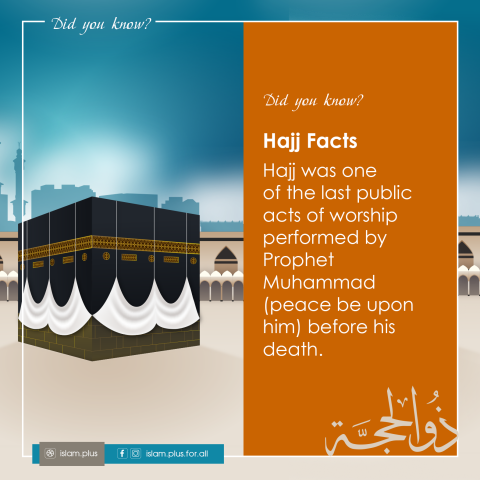
Add new comment