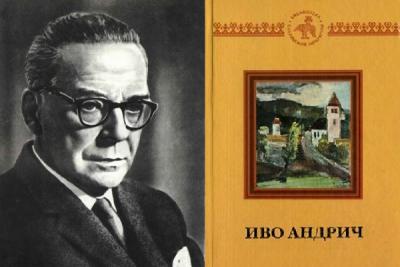
Теймур Атаев
О холмах ли?
Как же бесподобно пишет Иво Андрич. Это просто потрясение. Практически все его романы — будто полотно, сотканное уникальным художником слова. Хотя, полотно — это все-таки как бы застывшая картина, пусть нередко и находящаяся в «движении» благодаря нашим представлениям, догадкам, мыслям… жизненному опыту. Романы же И. Андрича — значительно шире. Глобальнее. Ибо в них — история нескольких поколений, к тому же ни на мгновение не прерывающаяся и продолжающаяся вплоть до дня сегодняшнего.
Как же так, подумает читатель, уже не одно десятилетие, как И. Андрич покинул земную жизнь, а «его» истории продолжаются? Да! А разве это невозможно, ежели писатель отражал вечные вопросы, да еще с блестящим описанием внутреннего мира героев?
Не будем настаивать, конечно, на полной правомерности нашего взгляда, но попробуем прислушаться к сказанному И. Андричем в его неповторимом «Разговоре с Гойей». Возможно, читатель удивится, что автором вспоминается эта беседа, т. к. речь пойдет о романе «Рзавские холмы». Однако почему бы не попробовать взглянуть на данное произведение через отдельные сокровенные мысли (душу) И. Андрича, изложенные именно в разговоре со знаменитым Гойей?
«Рзавские холмы» — тяжелый роман. Нет, не в плане сложностей в прочтении, т. к. знакомиться с любым из произведений Мастера — неимоверно легко, настолько плавно создает он шедевры. Тяжесть «Холмов» И. Андрича — в сильнейшем воздействии сюжета на читающего, аналогично духовно-мозговой атаке андричевских «Моста» и «Хроники».
По состоянию на 2013 год, население Рзава (село в общине Вишеград Республики Сербской Боснии и Герцеговины) составляло всего 124 человека. Совсем мало, на первый взгляд. Но именно на первый. Ибо постепенно приходит понимание, что живут эти немногим свыше 100 лиц как бы внутри холмов. Холмов, не один век пропускающих через себя происходящее в регионе.
Находящийся перед нами роман о холмах (о холмах ли?) пронизывает до всех нервных окончаний — правдой и внутренними переживаниями И. Андрича, передающимися нам в такой степени, будто это мы находимся в круговерти рзавской жизни описываемого периода.
А разве это не мы?
Через призму беседы с Гойей
«Все жесты человека порождены потребностью нападения или защиты», — читаем мы в «разговоре» И. Андрича с Гойей. Но вследствие природы искусства «невозможно передать тысячу мелких жестов, каждый из которых сам по себе не является тяжелым или зловещим». Другое дело, что «любой художник, который поставит себе целью рисовать то, что рисовал я, вынужден будет изобразить совокупность всех этих многочисленных жестов». А вот «на этом сгустке жестов необходимо и неизбежно будет стоять печать их подлинного происхождения — нападения и защиты, гнева и страха». Чем больше в каждом из них «вобрано и слито движений, тем оно выразительней и картина убедительнее. Вот почему в моих картинах позы и движения людей мрачны, часто зловещи и жутки».
Сложно… Но при этом и понятно, не так ли? В особенности, если преломить прозвучавшее ко многим сценам из «Рзавских холмов», где неоднократно фигурирует и мрачность, и жуткость. Причем, как это всегда высвечивается у И. Андрича, вне зависимости от национально-религиозной составляющей личности. В данном случае писатель касается темы сербско-австрийского противостояния, т. е. внутрихристианского, так сказать. Мусульманский же фон просматривается в романе лишь в небольшом, но важнейшем эпизоде.
И. Андрич описывает ситуацию из 1878 года, когда после боя на Гласинаце между австро-венгерскими оккупационными войсками и боснийскими повстанцами, при отступлении, в одном из болот «завязла турецкая пушка». Спустя же несколько часов к Рзавским холмам подступили австрийские солдаты, «пропыленные и злые». Местные жители разбежались и попрятались; лишь Али-ходжа встретил артиллеристов «прикованным за правое ухо к столбу у ворот».
Молодые статные тирольцы «врывались во дворы, требовали яиц и молока, хватали женщин», а, взбираясь на трубу казармы, «передразнивали муллу на минарете». По вечерам «расспрашивали редких прохожих, где можно найти женщин».
Правда, параллельно возле холмов «насадили акаций, построили террасы и беседки, подстригли кусты», привезли первое фортепиано, оборудовали теннисные корты. Появился первый комендант, «горький пьяница», но, тем не менее, люди стали привыкать, поступали на работу к приезжим, и лавочники продавали солдатам, офицерам и их женам свои товары. «Во всем, что делали иностранцы, сквозила самоуверенность», которая «удивляла и унижала».
Но вскоре «австрийский фронт дрогнул и откатился вместе с пленными и заложниками к Сараеву».
Как подчеркивается в романе, хотя «трудно выделить отдельные эпизоды или отдельных людей», единственным событием, о котором пусть недолго, но говорили, оказалась неожиданная гибель газды Неделько Джукановича. Это был авторитетный человек, «торговец лесом и военный поставщик». Так вот, в один период «австрийцы потеснили передовые позиции сербов, захватили холм почти до вершины и оказались возле домов Джукановичей», приказав Неделько идти с ними.
Тут как тут появилось человек пятнадцать, несколько турок из города, но главным образом цыгане «и прочая голытьба, все непроспавшиеся, закоптелые и хмельные». Осознав, что их ведут не в город, а куда-то вверх, Неделько обратился к старшему по годам турку, который был трезв: «Турецким богом тебя молю, Ибрагим-ага, не допусти безвинной нашей погибели!». Но напрасно Ибрагим переговаривался с остальными, никто не хотел его слушать, лишь сквернословили в ответ.
Для Неделько готовили виселицу. «Побойтесь Бога, люди», — «тихо и униженно» просил он, но слова заглушались ругательствами и криком. Вслед за чем его погнали к петле. И тут, стиснув кулаки, он громогласно закричал на них, обозвав «смердящими псами». И добавил: «Сербия была и будет, а вы вечно останетесь грязным цыганьем». «Я честно торговал и с сербом, и с любой другой верой, и всякий меня знал и признавал, а вы были швалью, швалью и останетесь, — добавил он, — тьфу! Мать вашу растак мусульманскую!». Произнеся эту тираду, Неделько спокойным шагом двинулся к виселице.
Австрийские власти вроде как сожалели о произошедшем убийстве, намеревались наказать карателей, но «вскоре и это забылось».
«Бей своих, чтобы чужие боялись»?
Наверняка, описываемая картина ясна по сути. Картина реально жуткая. Тяжелая. По той, как минимум, причине, что описанный путь к смерти безвинного человека не поддается какому-либо логическому осмыслению.
Что это вообще было? Месть? Зависть? Злоба? Состояние аффекта? Помутнение рассудка? В любом случае, факт остается фактом – одномоментно человек, который вел, как усматривается, добропорядочный образ жизни, вследствие насилия покидает земной мир. При этом, как демонстрирует И. Андрич, немусульманин убивает немусульманина, который на пути к смерти обращается за помощью к приверженцу ислама. Последний реально хотел посодействовать, откликнувшись на просьбу. Но увы.
Кратчайший эпизод. Но насколько сильный по форме и содержанию! И в этом весь И. Андрич, всегда стремившийся видеть в людях светлые стороны. Даже описывая темные нюансы души человека, он всегда оставляет надежду. Быть может, не столь своим героям, сколь каждому из нас. Что явно просматривается из данного эпизода, так это то, что когда христианин непосредственно в мусульманине увидел человечность и понимание, тот ответил взаимностью.
Так эпизод это или позиция И. Андрича? Наверное, читатель сам попытается ответить на этот вопрос, но, в любом случае, здесь высвечивается сознательная линия писателя, направленная на демонстрацию факта, что взаимовыручка или взаимопонимание между людьми определяются далеко не их принадлежностью к религиозной ветви.
И этот важнейший стержень придает роману оптимистические нотки. Да, печаль сквозит во всем произведении, и ты изначально чувствуешь внутреннее напряжение, несмотря на то, что текст входит в тебя легко. И вдруг такая вот развязка, после которой жизнь в обрамлении безмолвных холмов продолжает течь тем же размеренным темпом, что и ранее (пусть иногда разбавляясь неуправляемой скоростью).
Но, повторимся, в глобальном контексте, И. Андрич очень умело оставляет тропинку для оптимизма. Однако насколько легко удастся шагать по ней — зависит от всех нас, от всего человечества. Способны ли мы понимать и воспринимать тех, кто «не как мы»?
Способны ли?


 Quran
Quran
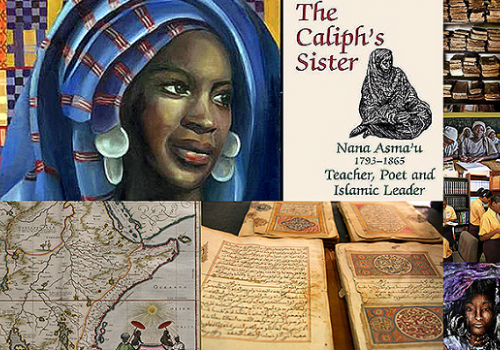



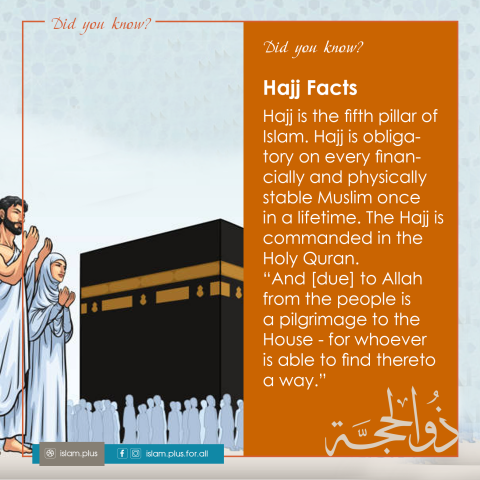
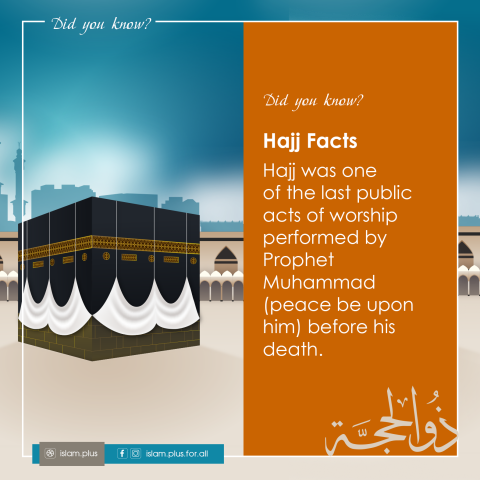
Add new comment