
Теймур Атаев
«Что хорошего может случиться, когда императоры ссорятся, народы истекают кровью и страны объяты пламенем?» (И. Андрич)
Анти или Про?
Иво Андрич. Величина. К тому же необъятная. Но разве он только писатель? Философ, произнесет кто-то. Социолог, подскажет третий. И с разных сторон добавят: культуролог, этнолог и т. д., и т. п. И все же… Можно ли ограничить взгляд на И. Андрича лишь отдельными определениями, пусть даже озвучиваемыми вкупе, хотя и вполне справедливыми?
По мнению автора, это не будет реальной картиной, ибо И. Андрич вобрал в себя слишком много того, что позволяет ему писать Жизнь — Жизнь как своего поколения, так и последующего, в том числе и нашу с Вами, Жизнь в цвете и во мраке, с радостями и трудностями, с победами и поражениями, подъемами и падениями.
Как это возможно, произнесет некто, что, описывая жизнь своих современников, да еще через призму предшествующих исторических событий, И. Андрич отражает-де нашу с вами историю из дня сегодняшнего? А в этом и состоит уникальность данного человека. Так как сюжет или временной фон любого из его произведений являются лишь полем для освещения им общечеловеческих, общецивилизационных пластов. За каждым из которых приоткрываются реальные черты людей, их взаимоотношения друг с другом — с близкими и далекими, друзьями и врагами.
Так вот, поразительность И. Андрича в том и состоит, что, предлагая нашему вниманию фабулу своих произведений, где фигурируют вроде как «свои» и «чужие», он блестяще демонстрирует схожесть всех людей. Будем откровенны: разве в основной массе все мы не похожи друг на друга? Для многих из нас понятие «счастье» несет один и тот же посыл. Как и «несчастье». А ракурс Любви? Преданности? Верности? Ну чем они отличаются друг от друга для лиц, проживающих в различных географических широтах?
Именно данная линия, по восприятию автора, является основной в романе И. Андрича «Травницкая хроника». Да, нередко можно столкнуться с таким мнением, что этот маститый писатель чуть ли не пропагандировал невозможность совместного беспроблемного проживания людей разных национальностей и вероисповедания. Однако автор выводит из произведений И. Андрича несколько иное.
Без сомнений, писатель реально фиксирует значительную разницу в восприятии представителями тех или иных этносов (конфессий) одного и того же события. Но ведь при этом И. Андрич великолепно демонстрирует, как непосредственно внутри каждой из конфессий происходят противоречия, доходящие чуть ли не до противостояния. Так причем тут религиозная ветвь или национальность героев? Быть может, дело все же в каждом конкретном человеке по отношению к жизни в целом и к людям в частности, вне конкретизации, находится индивидуум рядом или на другом берегу?
Эти мысли возникли еще при прочтении андричевского «Моста на Дрине»; после знакомства же с «Травницкой хроникой» они укрепились. Повторимся, в обоих произведениях четко просматривается водораздел, если можно так выразиться, между лицами, исповедующими различные религии и несхожими по языку общения. Но непреодолим ли он?
Аннотация и фон романа
Согласно аннотации к «Травницкой хронике», этот роман повествует «о нравственных коллизиях, возникающих, когда французский и австрийский консулы борются за влияние на турецкого визиря Боснии в начале XIX века». Действие «происходит на фоне эпохальных исторических событий: наполеоновских войн, борьбы Сербии за независимость, попыткой султана Селима III покончить с феодальной раздробленностью».
Не поспоришь, действительно вполне емкая и четкая аннотация, верная по сути. Но что стоит за этими пунктирными формулировками? Что помещается за фоном прекрасно преподносимой И. Андричем геополитической обстановки начала первой четверти XIX века? Так вот, там, продолжая жить своей жизнью, располагается боснийский город Травник (в черте которого родился И. Андрич), беспроблемно «вмещающий» в себя представителей различных этносов и вероисповеданий. Тот самый Травник, что в 1699-1850 годах (с небольшими антрактами) был резиденцией визирей Боснии, являвшейся провинцией Османской империи.
Войны XVIII века, которые изгнали турок из соседних христианских стран и заставили их вернуться в Боснию, пробудили в христианских подданных смелые надежды и открыли перед ними доселе невиданные перспективы, как пишет И. Андрич, что не могло не повлиять на их отношение к «царствующим господам туркам». Каждая сторона, «если можно говорить о сторонах на этом этапе борьбы», боролась своими способами и средствами, в соответствии с обстоятельствами и временем.
Мусульмане, по Андричу, боролись нажимом и силой, а христиане — терпением, хитростью, заговорами или готовностью к заговорам. Если «первые старались защищать свои права на жизнь и свой образ жизни, вторые — получить те же права». Христиане «чувствовали, что османы их притесняют все сильнее, а османы с неудовольствием замечали, что христиане окрепли и уже не те, что были прежде». «Столкновение столь противоположных интересов, вероисповеданий, стремлений и надежд, — фиксирует И. Андрич, — образовало сложный клубок, который в результате длительных войн Турции с Венецией, Австрией и Россией все больше запутывался».
Ну а с поднявшимся в начале XIX века восстанием в Сербии боснийский «клубок еще крепче затянулся и запутался». Плюс — наступил период наполеоновского европейского марша, когда «вступление французских войск в Далмацию неожиданно приблизило этого легендарного Бонапарта к Боснии и к самому Травнику». Место травницкого визиря занял Хусреф Мехмед-паша, «выказывавший такое уважение к Наполеону и такой интерес ко всему французскому, какие, по мнению травничан, не приличествовали османскому турку и сановнику султана».
Смена геополитической палитры актуализировала для ведущих европейских стран, прежде всего, Франции и Австрии, открытие в Боснии генеральных консульств. Вот Травник и загудел неслышимым на первый взгляд шумом. Просачивавшаяся информация о европейских представительствах в мусульманской Боснии вызвала прилив радости у христианского населения, в противовес негативным эмоциям мусульман. Но при этом, как то тонко преподносит И. Андрич, далеко не все христиане испытывали восторг от ожидания прибытия австрийского консула. Если католики, составлявшие большинство, «мечтали о влиятельном австрийском консуле, который обеспечит им помощь и защиту могущественного католического императора в Вене», православные, на которых «обрушились гонения из-за восстания в Сербии», не возлагали больших надежд ни на австрийского, ни на французского консула. Последние, усматривая в их приезде лишь добрый знак и доказательство ослабления власти осман, констатировали, что «без русского консула все равно дело не обойдется». Однако «одна мысль, что, кроме зеленого турецкого флага, будут трепетать и свободно колыхаться рядом с ним флаги и других цветов, зажигала радостный блеск в глазах» этой когорты.
В свою очередь, «малочисленные, но расторопные евреи-сефарды не могли при таких вестях сохранить свою веками приобретенную деловую скрытность; их также волновала мысль» о приезде в Боснию консула от Наполеона, «который для евреев — что отец родной».
Данное развитие событий, несомненно, воздействовало на травницких турок, которые, по определению И. Андрича, были «слишком умны и горды, чтобы проявлять свое волнение, но в разговорах с глазу на глаз его не скрывали». Их «давно уже мучило сознание, что защита турецких границ ослабела, что Босния становится открытой страной, по которой ходят не только османские турки, но и гяуры со всего света, где даже райя нагло поднимает голову, чего раньше не смела делать. А сейчас собираются нагрянуть гяурские консулы да шпионы, которые на каждом шагу будут подчеркивать свою власть и силу своих императоров».
Таковы были настроения в Травнике, когда здесь появился французский генконсул Жан Давиль.
«Свои» и «чужие»
Ж. Давиль, прежде всего, испытал потрясение от встречавшихся ему из окон домов лиц мусульман, выражавших «ненависть и фанатическое возбуждение». Ни один человек «не прекратил работы или курения, не поднял головы, чтобы хоть взглядом удостоить торжественную процессию». В формулировке И. Андрича, «только людям Востока свойственно так ненавидеть и презирать и так проявлять свою ненависть и презрение». Но в свете прозвучавшего интересно, что данный пассаж писателя характеризует ситуацию далеко не в межрелигиозном или межнациональном аспекте. Во время беседы Давиля с визирем последний говорил о «дикости» боснийцев, «о грубости и отсталости населения». «Люди невыносимы, — произнес он, — и что можно ожидать от женщин и детей, которых Бог обидел разумом, когда и мужчины в этой стране своенравны и неотесанны». Вслед за чем он актуализировал значимость «грандиозных наполеоновских побед и важность результатов», которые Османская и Французская империи «могли бы достигнуть при тесном и мудром сотрудничестве». Беседовавшие расстались «как добрые знакомые».
Вроде бы странно, не так ли? С одной стороны, И. Андрич великолепными мазками демонстрирует различие между мусульманами и христианами на фоне информации об открытии генконсульств европейских стран в Боснии. С другой — писатель фиксирует, насколько внутри боснийской христианской ветви наличествует неидентичное восприятие появления консулов (между католиками и православными). И здесь же — практическое неприятие османским мусульманином в лице визиря местных приверженцев ислама.
Мало того, другой визирь, констатируя, что «мир не хочет счастья», а «народы не желают иметь ни мудрых правителей, ни благородных государей», восклицает:
«Вы сами видите, мой благородный друг, где мы живем, с кем я должен бороться и иметь дело. Легче справиться со стадом диких буйволов, чем с этими боснийскими бегами и айянами. Дикари, дикари, дикари, неразумные, грубые и тупые, но щепетильные и заносчивые, своевольные, но пустоголовые. У боснийцев нет ни чувства чести в сердце, ни ума в голове. Они состязаются в ссорах и взаимных подлостях, и это единственное, что они знают и умеют делать. И вот с таким-то народом я должен теперь усмирять восстание в Сербии!».
В аспекте визиря Али-паши в романе звучит, что «его албанцы вели себя в Боснии, как в покоренной стране, обирая и турок и христиан», в связи с чем среди мусульманского населения сильнее разрасталось недовольство, «причем не явное, выражающееся в криках и мелких городских волнениях, а глухое и молчаливое, которое долго тлеет, а вспыхнув, несет кровь и резню».
Через дорогу же (если не на той самой трассе) аналогичная ситуация складывается на христианском поле. В основе чего — непоколебимая госпожа Мировая геополитика. Первым в Травнике распространять вести о «скверных поползновениях Австрии и плести нити» вокруг приезда австрийского консула стал не кто иной, как приближенный Давиля — Давна. Ну а «католики ликовали, монахи готовы были предложить свои услуги новому консулу столь же сердечно и преданно, сколь холодно и недоверчиво они встретили французского консула». Православные же, преследуемые из-за восстания в Сербии, чаще всего избегали открыто говорить об этом, а по секрету продолжали упорно твердить, что «без русского консула не обойтись».
Вместе с тем, с момента вступления на пост консула из Австрии стало отчетливо просматриваться его намерение «объединить всех противников французского консула». В свете происходящего совершенно не удивительна проносившаяся в мозгу госпожи Давиль следующая мысль: «Все мы молимся одинаково, все мы христиане и исповедуем одну веру, но какие глубокие пропасти разделяют людей».
В ракурсе прозвучавшего, напрашивается вопрос: кто же все-таки был «своим», а кто «чужим» для той или иной ветви религии?
А если «не свои» пытаются копнуть чуть глубже?
Что касается османских турок, они, «сохраняя свое достоинство», складывающуюся обстановку отслеживали молча. А вот боснийские мусульмане взбудоражились еще больше, чем при известии о приезде французского консула. В целом, в их восприятии каждый иностранец, приезжающий в Боснию, «понемногу прокладывает к ним путь из враждебной чужой страны, а консул, обладающий особой властью и средствами, может широко открыть эту дорогу, по которой для них ничего не может прийти, кроме плохого». Потому местные были крайне недовольны Стамбулом и турецкими властями, допускавшими развитие этой ситуации.
Рассматривая происходящее в Травнике взглядом Давиля, И. Андрич характеризует ситуацию таким образом, что «ничто не в состоянии было побороть врожденное недоверие мусульманского населения, не желавшего ни читать, ни слушать, ни смотреть и следовавшего лишь своему глубокому инстинкту самосохранения и ненависти к чужестранцам и неверным, которые подступали к границам и уже начинали проникать в страну». Однако, констатируя это, И. Андрич делает интереснейший ход. Он старается взглянуть на тончайшие нюансы с разных сторон. В частности, посредством попыток нового переводчика Давиля — молодого Дефоссе — глубже проникнуть в «чужой» для европейцев мир.
Причем эту линию писатель предваряет фиксацией отсутствия между этими двумя французами (позволим себе сказать, христианами) «точек соприкосновения и тем более какой-либо близости». Дефоссе был «настолько во всем отличен» от Давиля, что последнему «иногда казалось, будто он живет рядом с иностранцем и врагом». «Мир идей, бывший для поколения Давиля подлинной духовной родиной и настоящей жизнью, для поколения молодых, по-видимому, не существовал вовсе; зато для них существовал некий новый страшный мир, раскрывавшийся перед Давилем как холодная пустыня, гораздо страшнее революции со всей ее кровью, страданиями и духовной ломкой».
Что имел в виду консул? Быть может, в том числе, и тот факт, что Дефоссе приступил не к «протокольному» знакомству с мусульманским населением Травника? Так, он познакомился с весовщиком на рынке Ибрагим-агой и глашатаем Хамзой. Да, через взгляд Дефоссе И. Андрич приводит ряд нелицеприятных фактов. В частности, как «тот же Ибрагим-ага, оберегавший свою душу от малейшего греха при взвешивании, самым бездушным образом избивал крестьянина-христианина посреди базара» на глазах у всех: «Ах ты, грязная свинья, для того разве стена мечети поставлена, чтобы ты прислонял к ней свои поганые топорища?! Здесь пока еще колокол не звонит и христианская труба не трубит, свинское ты отродье!». А «кругом продолжали торговать, приценяться, взвешивать товар и считать деньги, не обращая никакого внимания на ссору».
Также И. Андричем описывается ситуация, когда в один из зимних дней, «словно по какому-то невидимому таинственному знаку, базар закрылся». Из всех ворот выскакивали мальчишки с румяными щеками и дикими взглядами, подзадоривая друг друга, орали:
– Вон крест! Бей!
– Бей неверных!
– Давай выкуп!
В романе приводится и такой факт, что в период антиосманского восстания в Сербии, в Травник доставляли сербов, обвиняемых в преступлениях. «Никто их не допрашивал и не судил», они попадали на разбушевавшийся травницкий базар, который «чинил над ними расправу без суда и следствия». Жители постепенно «начинали привыкать к отвратительным и кровавым зрелищам», а, забывая «виденные», требовали «новых и более разнообразных».
Предоставляя читателю возможность ознакомиться с данными нюансами, И. Андрич рассматривает этот вопрос значительно шире. Устами Дефоссе он говорит:
«Чем внимательнее я присматриваюсь и прислушиваюсь к этому народу, тем яснее вижу, как мы ошибаемся, когда, покоряя Европу страну за страной, всюду стараемся внедрить наши понятия, наш строгий и исключительно рассудочный образ жизни и поведения. Этот натиск представляется мне все более напрасным и бессмысленным, ибо глупо пытаться устранить злоупотребления и предрассудки, если не имеешь ни силы, ни возможности устранить породившие их причины».
Но каким образом Дефоссе приходит к этому убеждению? Дело в том, что, как пишет И. Андрич, при виде мужчин и женщин, «согбенных, закутанных с головой, всегда неподвижных, без улыбки», ему все сильнее хотелось разузнать об их страхах и надеждах, познакомиться с их подлинной жизнью, «до того безмолвной и мертвенной, что ее можно считать жизнью лишь по названию». Занятый этой мыслью, переводчик Довиля, в конце концов, начал всюду находить примеры, подтверждающие ее. «И в самой суровости этих людей, в их резких выходках он усматривал боязнь прямого высказывания, грубую и особую форму молчания». «Откуда они происходят? Как рождаются? К чему стремятся? Во что верят? Как любят и ненавидят? Как стареют и умирают?» — задавался он вопросом.
Чтобы приблизиться к ответам, даже в дождливые дни Дефоссе объезжал окрестности, вступая в беседу с незнакомыми людьми. Таким образом, он умудрялся знакомиться со многими деталями, которые «прямой и строгий» Давиль никогда бы не смог узнать. Ведь «в своем ожесточении» он «относился ко всему турецкому и боснийскому с отвращением и недоверием, не видел в прогулках и сообщениях Дефоссе ни смысла, ни пользы для дела». Давиля раздражало желание переводчика углубиться в прошлое народа, изучить его обычаи и верования, найти объяснение недостаткам и добраться наконец до его хороших сторон, «искаженных или запрятанных исключительными обстоятельствами, в которых народ принужден жить». Эти аспекты Давиль считал напрасной тратой времени и «вредным отклонением от правильного пути».
В свою очередь, с боснийскими мусульманами «сжился», привыкнув к их обычаям и нравам, главный секретарь австрийского посольства Никола Ротта.
Возможно, именно путь в народ, если можно так выразиться, заинтересованных в понимании внутреннего мира местных жителей лиц приводил к незашоренному взгляду на ситуацию. И они уже более реально воспринимали происходящее. Элементарно, Дефоссе подружился с глашатаем по имени Хамза, который, к слову, в «молодости был беспутным бездельником и горчайшим из травницких пьяниц».
Своеобразно получается, не правда ли? И. Андрич, безусловно, демонстрирует значимую несхожесть мусульман и христиан, а в ряде случаев открытым текстом говорит о противостоянии между ними, пусть и не на поле боя. Но параллельно писатель рисует картину внутренних противоречий в каждой из конфессиональных ветвей (пусть в отдельном случае и обоснованной геополитическими устремлениями). Следовательно, противостояние между людьми далеко не обязательно проявляется в форме межрелигиозных конфликтов. В особенности, если они искренне стремятся разобраться в важнейших тонкостях, характеризующих противоположную конфессиональную площадку.
Так возможно ли мирное сосуществование?
В то же время И. Андрич демонстрирует, что, хотя попытки глубже узнать тех, кто молится по-другому и живет в унисон собственным культурно-духовным традициям, реальны, как реально и желание понять этих лиц, огромная прослойка людей уверена в невозможности спокойного и мирного сосуществования представителей различных вероисповеданий. Устами боснийского христианина, доктора Колоньи, состоявшего при австрийском генконсульстве, И. Андрич произносит:
«Никому не понять, что значит родиться и жить на грани двух миров, знать и понимать один и другой и быть бессильным что-либо сделать, чтобы они договорились и сблизились, любить и ненавидеть и тот, и другой, всю жизнь колебаться и отклоняться, иметь две родины, не имея, в сущности, ни одной, чувствовать себя всюду дома и вечно оставаться чужестранцем: одним словом, жить распятым, но чувствовать себя одновременно и жертвой, и палачом».
«Это муки христиан на Ближнем Востоке, — произносит врач, — которые никогда до конца не могут быть поняты ни вами, представителями христианского Запада, ни тем более турками. Такова судьба левантинцев, которые, подобно poussiere humaine, пыли людской, таскаются между Востоком и Западом, не принадлежа ни одному из них, но получая удары от того и другого. Эти люди знают много языков, но ни один из них не считают родным, им знакомы две веры, но ни в одной из них они не тверды».
Данную когорту лиц доктор Колонья очерчивает в качестве жертв фатального разделения человечества на христиан и нехристиан: «вечные толмачи и посредники, однако души их самих полны неясного и недоговоренного; прекрасные знатоки Востока и Запада, их обычаев и верований, но одинаково презираемые и подозреваемые обеими сторонами». В их направлении Колонья ссылается на строки выдающегося Джалаледдина Руми: «Я и сам себя не знаю. Я ни христианин, ни еврей, ни перс, ни мусульманин. Я не принадлежу ни Востоку, ни Западу, ни суше, ни морю».
По словам доктора, эти люди «стоят на границе, духовной и физической, на той черной и кровавой линии, которая в силу тяжелого и бессмысленного недоразумения существует между людьми, божьими творениями, между которыми не должно быть границы. Это грань между морем и сушей, осужденная на вечное движение и колебание, как бы третий мир, где осело все проклятье вследствие разделения земли на два мира».
Обращаясь к Дефоссе, врач добавляет: «Вы можете понять нашу жизнь, но для вас это лишь неприятный сон, потому что вы, живя здесь, знаете, что это временно и, рано или поздно, вы вернетесь на родину… Вы проснетесь и освободитесь от этого кошмара, мы же — никогда, так как это наша жизнь». Вслед за этой тирадой Колонья резюмирует, вспоминая коранический аят:
«Может быть, Аллах установит дружбу между вами и теми, с кем вы враждуете. Аллах — Всемогущий. Аллах — Прощающий, Милосердный» (Коран, 60:7).
Так что, надежда на мирное сосуществование реальна? Или?.. И. Андрич продолжает входить в этот вопрос, подталкивая к размышлению и читателей.
Схожесть. Идентичность. И в то же время разделение?
Данный сложнейший аспект писатель рассматривает через диалоги героев. Во время беседы Дефоссе с викарием одного из монастырей оба признают необычайную трудность проживания в Боснии и низкий уровень жизни населения вне зависимости от вероисповедания. Причину такого положения монах определяет в факте османского господства, уверяя, что никакого улучшения не наступит до этапа освобождения страны от «османского ига и пока османскую власть не заменит христианская».
Дефоссе же, не будучи удовлетворен разъяснениями викария, ищет причины в самих христианах. Османское владычество, как утверждает он, привило своим христианским подданным характерные особенности, как то: притворство, упрямство, подозрительность, леность мысли и страх перед всяким новшеством, всякой деятельностью и движением. Эти особенности, появившиеся в течение столетий неравной борьбы и постоянной защиты, постепенно стали органичными для здешнего человека и постоянными чертами его характера. «Плоды нужды и насилий» являются сейчас и останутся в дальнейшем большим препятствием для прогресса, дурным наследием тяжелого прошлого и крупным недостатком, который требует искоренения. Дефоссе не скрывал своего удивления от того, с каким упорством «в Боснии не только мусульмане, но и люди всех остальных вероисповеданий противятся всякому, даже самому хорошему влиянию, восстают против всякого новшества, всякого прогресса, в том числе и такого, который возможен при нынешних условиях и зависит только от них самих».
Дефоссе идет еще дальше. «Может ли в стране воцариться мир и порядок, может ли она воспринять цивилизацию, — вопрошает он, — хотя бы в той мере, в какой ее восприняли ближайшие соседи, если народ в ней разъединен, как нигде в Европе?». «Четыре веры бытуют на этом узком, гористом и бедном клочке земли. Каждая из них исключает другую и держится особняком, — продолжает Дефоссе, — все вы живете под одним небом, и питает вас одна земля, но центр духовной жизни каждой из вер далеко, в чужих краях – в Риме, Москве, Стамбуле, Мекке, Иерусалиме или бог знает где, только не там, где народ рождается и умирает. Каждая вера считает, что ее благоденствие и процветание обусловлены отставанием и упадком каждого из трех остальных вероисповеданий, а их прогресс может принести ей только ущерб. Каждая из этих вер провозгласила нетерпимость высшей доблестью, каждая ждет спасения откуда-то извне и каждая с противоположной другим стороны».
Никто не парирует сказанное Дефоссе. Мало того, И. Андрич обыгрывает прозвучавшую мысль и в ином ключе (также благодаря диалогам персонажей романа). Так, один из героев фиксирует, что, например, турки и христиане, «правда из разных побуждений», противятся строительству и поддержанию путей сообщения. Долацкий священник конкретизирует:
«Чем дорога хуже, тем турок реже. Было бы самое лучшее, если бы между ими и нами выросла непроходимая гора. Не рассказывайте никому о том, что я вам сказал, но помните: пока в Травнике владычествуют турки, нам и не нужно лучших путей. Когда турки и поправляют дорогу, наши при первом же дожде или снеге ее обрушивают и раскапывают. Вторая причина — в самих турках. Установить транспортную связь с христианским миром — то же самое для них, что открыть доступ вражескому влиянию, позволить ему воздействовать на райю и стать угрозой для турецкого господства».
В процессе разговора речь заходит об озлобленности, преподносимой главной причиной «отсталости здешнего народа». В ответ на что звучит мысль о происхождении как озлобленности, так и добросердечия народа из условий, «в которых он живет и развивается». На сооружение дорог «нас толкает не доброта, а стремление и желание расширить выгодные нам связи и влияния», что многие объясняют нашей «озлобленностью». Выходит, что «наша озлобленность заставляет нас строить дороги, а их – ненавидеть и по возможности разрушать эти дороги».
По мнению автора, каких-либо конкретизаций к произнесенному не требуется. Не выходя за рамки сюжета, И. Андрич блестяще раскрывает картину взаимоотношений между людьми. Раскрывает ненавязчиво. Точечными мазками. Позволяющими оценивать ситуацию не эмоционально.
О религии и вере
Через диалоги писатель касается и другого важного вопроса. Когда в разговоре с монахом Дефоссе стал актуализировать необходимость для Боснии школ, дорог, врачей и т. д., викарий перебил его: «Кому нужно просвещение без веры в Бога?». В ответ на что Дефоссе, заявив о наличии в стране нескольких ветвей мировых религий, заявил о разъединенности людей «кровной враждой» и отгороженности «непроходимой стеной от Европы, то есть от всего остального мира и жизни». Высказав убежденность, что «когда-нибудь и ваша страна войдет в состав Европы, но может случиться, что войдет разделенной и обремененной доставшимися ей по наследству понятиями, привычками и инстинктами, везде уже изжитыми». Но «ни один народ, ни одна страна Европы не кладут в основу своего прогресса веру».
Парируя убежденность викария в том, что жизнь без Бога и измена вере отцов являются несчастьем, Дефоссе ставит вопрос несколько в ином ракурсе. По его словам, после падения Османской империи «разноплеменные инаковерующие народы», находившиеся под турецкой властью, «должны будут найти общую, более широкую, более совершенную, разумную и человечную основу для своего существования».
— У нас, католиков, давно уже есть такая основа. Это Credo римско-католической церкви. Лучшей нам и не надо.
— Но вы же знаете, что не все ваши соотечественники в Боснии и на Балканах принадлежат к этой церкви, да и никогда не будут принадлежать к ней одной. Вы видите, что никто в Европе уже не объединяется на этой основе. А потому надо искать другой общий знаменатель. Не Вы один верите в Бога. Верят миллионы людей. Каждый по-своему. Но это не дает права обособляться и замыкаться в какой-то нездоровой гордыне, отвернувшись от остального человечества, а часто и от самых близких людей.
Прислушаться бы к И. Андричу
Давайте признаем, даже те краткие приведенные выше выдержки из «Травницкой хроники» свидетельствуют о переживаниях И. Андрича за будущее человечества. В рамках задуманного им сюжета он озвучивает проблемы, актуальные и для наших дней.
Рецензируя «Мост на Дрине», автор отмечал, что ракурс моста для И. Андрича совершенно не ограничивается «физическим» звучанием. Хотя внешне свой рассказ он ведет о мощнейшей конструкции, позволяющей свободно передвигаться по ней из одного ареала в другой (в различных целях), в реалии речь идет о мосте как связующей нити между людьми.
Аналогично и в «Травницкой хронике» внешне главенствуют вопросы, отраженные в аннотации к роману (о чем говорилось в начале статьи). В реальности же в произведении освещаются мысли, сомнения, переживания И. Андрича — насколько разная культура народов, нестыковка многих традиций и т. д. способна стать не камнем преткновения для беспроблемного совместного проживания, а, наоборот, островком, могущим превратиться в Город добра и благоденствия. Возможно ли такое?
Поиск ответа на этот вопрос и объединяет «Мост на Дрине» с «Травницкой хроникой». В основе же его поиска — Человек. Судьба человека. Его будущее. Жизнь бежит вперед, развиваются технологии, стираются границы и расстояния. Но человек остается тем же и таким же, каким его создал Всевышний. Постоянная борьба внутри личности — света со мраком. Ментальные тонкости, мировоззренческие. И поиск ответов, нередко — мучительный. Это и есть стержень, нерв романов Иво Андрича. Такова и «Травницкая хроника».
А потому, как и в «Мосте», так и в «Хронике», в героях нет однозначных светлых или темных тонов. В каждом просматривается «многополосность».
Сюжетная линия романа охватывает семь лет (с 1807 по 1814 гг.). Мизернейший по историческим меркам клочок времени. А в аспекте человеческой жизни, когда одно слово, жест или даже просто молчание может привести к трагическому исходу? Семь лет... целая эпоха для кого-то. Потому роман и читается со внутренним напряжением. Но, будем откровенны, разве мы можем избежать аналогичного напряжения в собственной жизни? В особенности, когда нас поглощают вопросы, ответы на которые мы иногда не находим. Если не сказать, что боимся озвучить их.
Вместе с тем, по мнению автора, внимательное знакомство с романом (в том числе и между строк) не позволяет согласиться со мнением о противопоставлении И. Андричем мусульман христианам и иудеям. Выше мы уже затрагивали это контекст, сейчас же подчеркнем, что писатель в очередной раз пытается взглянуть вглубь ситуации и выискать ту парадигму, что могла бы сблизить людей. Потому в «Травницкой хронике» он продолжает писать жизнь, начатую в «Мосте над Дриной». Не случайно, в его героях мы иногда узнаем самих себя с нашими неозвучиваемыми вслух мыслями. Либо видим за их шагами наши действия, за которые нам должно быть стыдно (как минимум, неуютно).
В то же время, хотя в романе описываются события начала XIX века, нить очень аккуратно, но явно, достигает нынешнего исторического этапа. Босния. Центр Европы. Век XXI. Те же межконфессиональные и межнациональные нюансы в регионе и вокруг, могущие в очередной раз стать детонатором, приближающим новый формат общемирового противостояния. Остается лишь уповать на Всевышнего, чтобы человечество нашло в себе силы избежать пламени новой мировой войны всех со всеми — где уж точно не будет победителей и побежденных.
Последнее предложение «Травницкой хроники» звучит следующим образом: «Хамди-бег остановился, задохнувшись, все молчали в ожидании, не скажет ли старик еще что-нибудь, и курили, наслаждаясь прекрасной, победной тишиной». Стала бы эта боснийская тишина реальным спокойствием на века, не прерываясь на гибельные для человечества мировые разрушительные войны. Через свои переживания, переложенные в строчки нестареющего романа, И. Андрич дает надежду на это. Но практическое воплощение данной надежды в реальный положительный итог зависит от каждого из нас. От каждого, в буквальном смысле слова. Готовы ли мы сами принимать свое — как близкое, так и дальнее — окружение таким, каким оно есть? От ответа на этот вопрос зависит жизнь всей планеты, включая и наших потомков.


 Коран
Коран










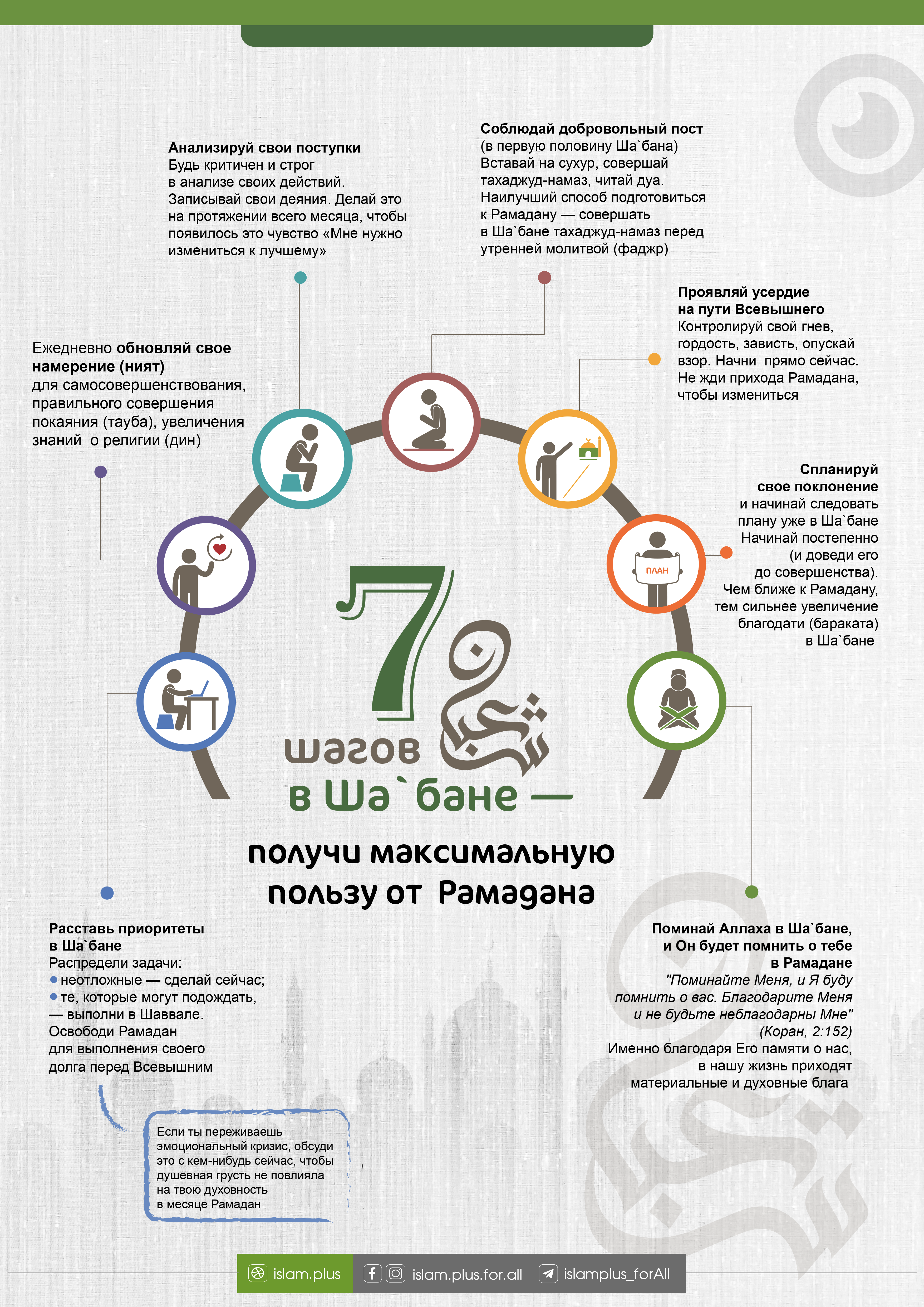
Добавить комментарий