
Теймур Атаев
Человечность — на обочину мировой истории?
Сколько книг написано о войне. Сколько передано переживаний, с которыми столкнулись в период военных действий люди. Но каждое воспоминание, каждая подробность этих античеловечных акций демонстрирует гибельность войны для всей планеты. И не важно, на каком историческом этапе происходят военные действия, в каком географическом пространстве. Она уносит жизни не только тех, чье сердце перестает биться от бомбежек или убийства, но и тех, кто продолжит жить.
Вполне естественно, что вне этой темы никоим образом не мог остаться прекрасный боснийский и хорватский писатель, журналист Миленко Ергович. Выросший в Сараево, он оказался в гуще той кровавой мясорубки (как внешнего, так и внутреннего происхождения), что потрясла до основания практически всех жителей экс-Югославии — кого в большей, кого в меньшей степени.
Как тут не высказаться, да еще М. Ерговичу, всегда нестандартно отражающему перипетии происходящего? Нет, конечно, писатель, в 1993 году перебравшийся в хорватский Загреб, не готовит фолианты. Как не преследует цель представить взыскательной читательской братии многотомное художественное произведение. Талантливый писатель лишь отдельными мазками пытается запечатлеть для своих современников и следующих поколений (а, возможно, и для себя) пережитое в те страшнейшие годы и поселившееся в нем на всю жизнь.
Но как представить искушенному читателю все перипетии трагедии, демонстрирующей чуть ли не утерю человечности? Человечность…. Возможно ли одним-двумя словами охарактеризовать данное понятие? Доброта это? Дружба? Чувство локтя? Преданность? Верность? Хотя… какая уже разница, коль на таком внешне цивилизованнейшем этапе мировой истории, охватывающем конец XX – первую треть XXI века, сотнями тысяч гибнут мирные люди, причем немотивированной смертью, вызываемой росчерком пера (а иногда всего лишь устными договоренностями) сильных мира сего? А что есть по сравнению с жизнью Божеского создания человечность сама по себе?
Именно эту трагедию блестяще отражает М. Ергович в своих небольших рассказах «Библиотека» и «Кактус». Без сомнений, можно красиво и обтекаемо преподнести, что он описывает печальные эпизоды современной истории юго-восточной Европы. А если вещи называть своими именами? Тогда нужно признать, что Ергович со своих строчек буквально кричит о масштабнейшей катастрофе, к которой ведут войны. Катастрофе для людей, прежде всего, для их психологии. Когда рушится человеческий мир — и внутренний, и внешний; нарушается общепланетарная гармония, предусмотренная Всевышним, — гармония всего и вся, — что приближает гибель всей нашей цивилизации.
Мастерство же М. Ерговича при освещении тончайших психологических нюансов военного времени в том, что он полностью абстрагируется от конкретизации (во всяком случае, открытой) национально-конфессиональной принадлежности лиц, свободно реализующих кровавую вакханалию. Тем самым писатель демонстрирует, что дело далеко не в том, на каком языке ты мыслишь и каким образом отправляешь религиозные ритуалы.
В одном из интервью М. Ергович сказал об ответственности, которую каждый из нас несет «за свой национализм, за своих фашистов, за своих диктаторов, и пока мы не отказывается от этой ответственности, у нас есть шансы на спасение».
И в этом весь Ергович.
Санкционированное аутодафе современности
Книги. Печатное слово. Библиотека. Тишина в зале. Ты вникаешь в строчки, пропуская их через себя.
Книги. Библиотека. Взрыв снарядов. Странички оказываются пеплом.
«Сначала слышишь свист над головой, потом проходят две-три напряженные секунды, и внизу, где-то в городе, раздается взрыв». Если пламя горит «лениво и неспешно, значит, это жилище кого-то победнее». Когда «всполохнет огромным синеватым шаром, то это наверняка недавно отремонтированная мансарда, обшитая лакированным деревом». В случае долгого и ровного огня, ты понимаешь, что это «богатый дом солидного хозяина, набитый массивной старинной мебелью». Но внезапно «пламя рванет в небо», дико и разнузданно, так же резко исчезнув, сохранив лишь возможность наблюдать, как «над городом продолжают летать лепестки пепла». Значит, «можно быть уверенным, что сгорела чья-то домашняя библиотека».
Страшно читать, однако… А когда слышишь констатацию, что «за тринадцать месяцев бомбардировок ты видел над городом бесчисленное множество этих огромных беснующихся факелов, в голову приходит мысль», что город Сараево «просто стоял на книгах».
Но книги ли гибнут, когда «веселящийся огонь будет глотать» их? Отнюдь, как пытается раскрыть М. Ергович. Да, обложка, бумага, типографская краска исчезают. Материальный мир, так сказать. Пусть и строки. Ну а как быть с той духовностью и мировоззрением, которые в немалой степени эти книги формировали в тебе? Ведь именно они волновали «и содержанием, и просто своим видом». Воздействовали, заставляя переживать и сомневаться, влюбляться и расходиться.
И вот осознание: с ними «приходится расставаться», т. к. естественным для сараевских (только ли сараевских?) книг состоянием стали «огонь, дым и пепел». Звучит патетично, задается вопросом М. Ергович? «Может быть, позже кому-то покажется» именно так, в особенности, когда в других городах «все еще существуют книжные магазины». Но какая же это патетика, раз ты уже столкнулся с тем, что «лучше, красивее и основательнее, чем книги, горят только рукописи»?
На этой ноте М. Ергович выводит страшнейший знаменатель, в соответствии с которым с угасанием «иллюзии о домашней библиотеке» подходит угасание и иллюзии «о книжной цивилизации».
«Самое имя книги, восходящее к греческому корню, такому же обычному корню, но связанному с названием Священной книги, — восклицает писатель, — являлось подтверждением веры в эту цивилизацию. Однако когда книги одна за другой начинают безвозвратно исчезать в пламени, перестаешь верить в смысл их существования».
Потому один сараевский писатель и библиофил зимой начала 1990-х грел руки не над печкой с дорогими дровами, а над «пламенем Достоевского, Толстого, Шекспира, Сервантеса».
Возможно, М. Ергович пытается найти какое-то обоснование происходящему, быть может, некий сакральный смысл трагедии. Но, по всей видимости, не видит его. Да и есть ли он? Потому писатель, фиксируя, что «нет смысла мешать огню поглощать то, мимо чего спокойно проходит человеческое равнодушие», проводя линию от Второй мировой войны к современности, констатирует: «Красота Парижа или Лондона не может служить алиби тем преступникам, из-за которых нет больше прежней Варшавы, Дрездена, Вуковара или Сараева».
Самое же страшное тут — готовность жителей этих городов, «даже в годы самого прочного мира», к эвакуации с последующим отречением от своих книг. А не есть ли данная картина предтечей возвращения ее Величества Земли «к состоянию, в котором она пребывала несколько миллионов лет назад»?
Оторопь берет от столь мастерски предоставленного эскиза нынешнего вандализма, осуществляемого благодаря его подталкиванию со стороны представителей самых что ни на есть демократическо-цивилизованных стран, ратующих за права человека — со стороны государств, мечтающих привлечь (приобщить) к своему пониманию культуры все человечество. И не беда, что громогласные призывы следовать так называемым «демократическим традициям» без зазрения совести осуществляются в унисон невозможности подсчитать, сколько всего библиотек красавца Сараево оказались сожженными. Одна из них — покрытая «прахом и пеплом» сараевская университетская библиотека, прославленная Вечница, книги которой «полыхали целый день и целую ночь».
Однако жизнь продолжается, у многих атрофируется чувство сострадания. Как пророчески писал М. Ергович, «после всех огромных костров, разжигавшихся и по приказу, и спонтанно, сформировалась целая категория людей, которые, постигнув горькую логику хода вещей, завтра будут хладнокровно смотреть на горящий Лувр без малейшего поползновения плеснуть в огонь хотя бы стакан воды».
Великолепно сказано, особенно в свете случившегося в апреле 2019 года пожара в соборе Парижской Богоматери, который привел к обрушению шпиля и части крыши, а также к повреждению внутреннего убранства сооружения. Будем откровенны: хотя огромные массы людей по всему миру выразили сочувствие, а многие пролили слезы, спустя пару дней все забылось. И жизнь приняла новые обороты. С теми же лозунгами обязательного (!) следования правам человека, подразумевающих, наверное, легальные бомбежки (выборочные, естественно) жилых кварталов в конкретных частях планеты.
Просто кактус?
В другом рассказе трагедию войны М. Ергович передает совершенно в другой тональности. Он использует нотки юмора, блестяще укладывающегося в канву произведения. Но делает он это настолько мастерски, что оттенок улыбки читателя лишь обостряет страшнейшую атмосферу войны, когда человек теряет грань между реальностью и фантасмагорией происходящего.
Герою произведения, проживающему в Сараево, подарили кактус в миниатюрном горшочке «размером с пальчик новорожденного». Он поставил его в комнате на слабоосвещенное место и поливал каждый пятый день. При этом молодой человек помнил слова своей бабушки, утверждавшей о недопустимости переставлять кактусы, поскольку они могут жить только на одном месте. «Я никогда не забывал об этом и следил за тем, чтоб не сдвинуть его с места», — говорит герой, от имени которого М. Ергович ведет свой рассказ. Он реально заботился о кактусе, поражаясь, «как здорово это у меня получается».
На фоне начавшейся войны в Хорватии кактус стал преображаться. Вырастали колючки, «нежные, как у совсем маленького ежика, а сам он толстел и тихонько следовал за солнцем». Он уже не был растением величиной «с детский пальчик».
С уничтожением хорватского Вуковара герой «словно ощутил чье-то ледяное дыхание за спиной» — жизнь «вдруг стала совсем другой», о которой он «не знал совсем ничего».
Парень переселяется в подвал. Но о кактусе он не забывает, каждый пятый день он поднимается наверх и поливает его. Несмотря на то что герой «ежесекундно ждал выстрела», он ни разу не нарушил дату поливки растения.
В подвале было темно, сыро и неудобно; в глаза въедалась угольная пыль. Молодой человек жил практически в темноте, испытывая отчаянный страх перед надвигающейся зимой.
В один из поливочных дней вся вода в квартире замерзла. Помня, что кактус не переносит холода, ерговичевский герой перенес его вниз, поставив напротив печки, топившейся угольной пылью — «где, как мне казалось, хорошо и кактусам, и людям». Но наутро он лежал, уронив головку на край горшка, «будто высматривая где-то внизу» солнце. «Я полил его в последний раз, хотя было ясно, что это конец».
Смерть кактуса? Или человека?
«Война научила меня колдовским способом усмирять эмоции и нервы», — свидетельствует рассказчик. Поэтому если «заговорить о чем-то, что мне особенно близко и дорого, где-то внутри меня будто загорается красная лампочка, вроде той, что стирает шумы на магнитной ленте, и я уже ничего не ощущаю». Но стоит ему подумать о кактусе, «проверенное средство не приносит облегчения», ибо растение стало для него олицетворением грусти, «столь же обманчиво безопасным, как исходящий от смертоносного цианида запах горького миндаля».
И вновь оторопь берет читателя. Война вроде напрямую не затрагивает героя рассказа. Вернее, он внутри нее, но жив и здоров, в безопасности. И в то же время война — в нем. Все его нутро «занято» войной.
М. Ергович великолепно демонстрирует, что связка рассказчика с кактусом — это, прежде всего, связка фактически заключенного в подвал (мрак) нашего современника со светом (миром). Ведь он поднимался наверх только при необходимости поливки растения. Значит, не будь в доме кактуса, парень спокойно мог обходиться без «выхода в свет», приводившего к риску для его жизни вследствие возможной шальной смерти.
Возможно, как герой поддерживал жизнь кактуса, также и цветок помогал жить молодому человеку. Ведь каждый его подъем из подвала в комнату, даже при всем страхе, приносил ему облегчение. Он чувствовал себя не «внизу», во мраке, а в том обрамлении, к которому привык. Кроме того, даже в условиях вынужденного бездействия в реальной жизни, она наполнялась смыслом существования на земле — поддержка кактуса.
Но происходит то, что происходит, и кактус уходит из жизни парня. Однако весь ход рассказа отчетливо подводит к выводу о том, что с утерей растения герой теряет и немалую часть самого себя — кусочки сердца, души, разума. В чем сейчас смысл жизни для него? Будет ли он продолжать подниматься к свету каждый пятый день?
Согласимся, что как в «Библиотеке», так и в «Кактусе» М. Ергович показывает трагедию войны нетривиально. Он детализирует переживания героя не через конкретные битвы или отдельный бой, а посредством описания процесса его ухода за растением. Кактус стал ближайшим другом героя произведения, если не сказать членом семьи, в связи с чем все проживаемые им дни приобретают смысловое звучание. А потому смерть цветка бьет рассказчика, возможно, сильнее, нежели выпущенная снайпером пуля.
Заключение
Наверняка, сложно не согласиться, что в рассказах «Библиотека» и «Кактус» М. Ергович уникально вывел на художественную поверхность ужасы войны, продемонстрировав, как в человеке может исчезать «встроенная» в него человечность. Тушиться взгляд. Теряться улыбка. Ладно еще, на какой-то период. Но М. Ергович через размышления героев тончайшими линиями показывает, насколько дни войны будут сопровождать переживших их практически всю жизнь.
Уникальность подхода М. Ерговича в этих произведениях просматривается и в том, что он не заостряет внимание на национально-религиозной принадлежности осуществляющих бомбежки или спасающихся от них. Что является результатом его позиции. Так, рассуждая о национальной идентичности «в любом смысле слова: и территориальной целостности, и сущности народа», частью этой идентичности М. Ергович определяет, как минимум, двуязычную культуру и «общее христианское и мультирелигиозное сообщество». Потому, как резюмирует он, все мы «должны с ответственностью относиться ко злу, которое совершено от нашего имени и от имени нашего сообщества, вне зависимости от того, какое именно это сообщество — религиозное, национальное, политическое».
Прислушаемся? Или продолжим подсчет погибших от бомбежек мирных жителей, а с ними и книг, и домашних растений?..


 Quran
Quran




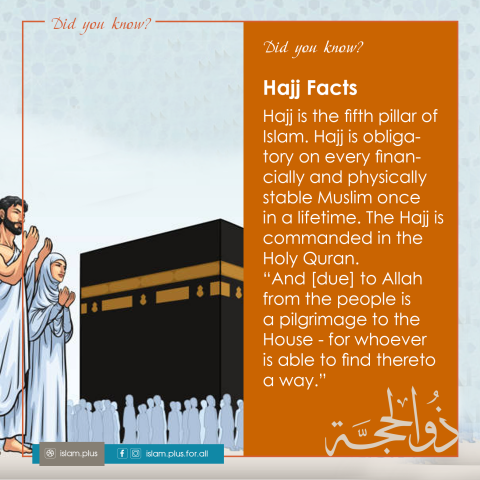
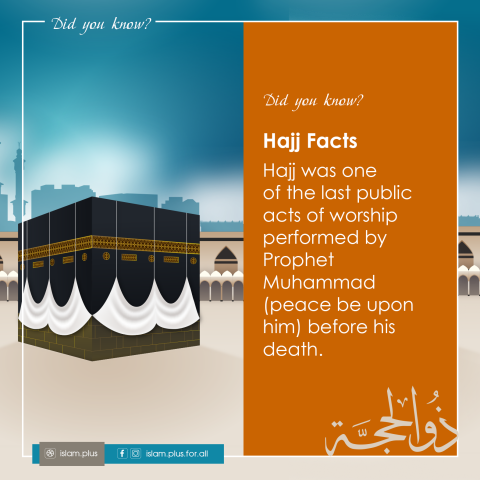
Add new comment