
Теймур Атаев
«Там, где одни видели абстракцию, другие видели истину»
(Альбер Камю. Чума, 1)
«Чума» 1947 г. как отражение ситуации внутри пандемии 2020 г.
Наверное, имя французского писателя Альбера Камю, лауреата Нобелевской премии по литературе 1957 года («за огромный вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести») практически ничего не говорит сегодняшней молодежи. А вот представителям старшего поколения, кто знаком хотя бы с одним-двумя его произведениями, вряд ли удастся забыть впечатление, испытанное от их прочтения (по субъективному мнению автора, его наиболее сильным романом является «Падение»). Однако в свете чего мы сегодня вспоминаем этого неординарного философа (в понимании автора, он именно философ, который посредством писательского мастерства пытался рассматривать сложнейшие вопросы жизни)? Да по вполне прозаической причине: начиная с весны 2020 г., написанное им в 1944 г. (изданное в 1947 г.) произведение «Чума» стало одним из самых раскупаемых во Франции.
По словам А. Камю, содержание «Чумы» — это отражение борьбы европейского сопротивления против коричневой чумы, то есть нацизма и фашизма, хотя, согласно писателю, он «распространил значение этого образа (чумы) на бытие в целом»(2).
Однако с позиции сегодняшнего дня, «Чума» — это, скорее, о нынешней пандемии. Вернее, о факторе эпидемии. То есть о нас с вами, о ситуации в целом, которая сложилась в человеческом сообществе в результате распространения COVID-19. Роман этот о жизни. Характерах людей. Здесь — уникальный поиск А. Камю ответов на вечные вопросы посредством диалогов героев или спокойного тона рассказчика.
А сколько тут сфокусировано сюжетных линий! Вроде самостоятельных, но, при внимательном рассмотрении, уверенно соединенных друг с другом. А. Камю не щадит ни себя, ни читателя, затрагивая тончайшие струны человеческой души. Причем в процессе «вхождения» в роман ты улавливаешь его позицию в каждой строчке, что роднит «Чуму» с «Братьями Карамазовыми», где в каждом из героев – частичка Федора Достоевского.
Другая стыковочная линия между подходом А. Камю и Ф. Достоевского – в канве рассуждений, причем довольно непростых, священника и врача-атеиста. Оба любят людей, и каждый из них пытается найти причины происходящей трагедии, уносящей жизни даже безвинных детишек. В рассуждениях врача мы будто слышим голос Ивана Карамазова, да и во многом другом «Чума» перекликается с «Братьями Карамазовыми». Что далеко не спонтанно, так как, по Камю, у всех героев Достоевского, задающихся «вопросом о смысле жизни», словно «какая-то заноза в теле». Все они «ею ранены и ищут лекарство», а «пройти мимо этих сомнений» невозможно, так как в них улавливается борьба человека «с собственными надеждами»(3). Аналогично можно высказаться и о «Чуме», лишь добавив, что «занозу» в своих героев помещает сам писатель.
Безусловно, можно очень много и подробно говорить о ряде направлений сюжетной линии книги, однозначно заслуживающей глубочайшего, вдумчивого подхода, но в данном случае автор принял решение представить на суд читателя лишь отдельные выдержки из романа, который будто один к одному описывают мысли людей, столкнувшихся с пандемией сегодня.
И в этом – одна из граней уникальности А. Камю, который напрямую не переживал описываемую им эпидемию. Кто-то произнесет: то есть, итог — Мастерство. Другие употребят определение Талант. Вполне очевидно, что могут быть использованы и другие эпитеты по отношению к А. Камю. Но ничего удивительного тут нет, если прислушаться к прозвучавшей в его выступлении по случаю вручения Нобелевской премии фразе, что истинный художник «почитает своим долгом понимать». В том же году в одной из лекций он раскрыл сказанное таким образом:
«Мы находимся в открытом море. И художник наравне с другими обязан сидеть за веслами, стараясь, насколько это возможно, не умереть, то есть продолжать жить и творить»(4).
Говоря иными словами, А. Камю потому и оказался читаем сегодня, что в своих произведениях он пытался понять (осмыслить) Жизнь, со всеми ее перипетиями, «ибо человек — единственное существо, претендующее на постижение смысла жизни»(5).
Вот для постижения такого рода ему и приходилось плыть в открытом море своих мыслей. Наблюдать и задаваться вопросами. Находить ответы, но вновь и вновь пытаться получить подтверждение. Или опровержение. Потому он и пронес эту «чуму» через себя, будто реально испытав всю минусовую палитру заразы.
Он не просто показал рождение и захват эпидемией мирного города, а блестяще продемонстрировал хрупкость мира и людей. Всего человечества. Через интереснейшие рассуждения своих героев (самого себя?) о вере, доброте, зле, долге, чувстве справедливости и многом другом, когда душевность и понимание соседствуют с черствостью и безучастностью. Потому, если абстрагироваться от года издания произведения, мы получим интереснейшее описание всего происходящего сегодня в нашей жизни, вплоть до озвучивания каких-то наших мыслей.
Подготовка
«В мире всегда была чума, всегда была война», которые, «как правило, заставали людей врасплох». Стихийное бедствие «не по мерке человеку, потому-то и считается, что бедствие — это нечто ирреальное, что оно-де дурной сон, который скоро пройдет». Но «не сон кончается, а от одного дурного сна к другому кончаются люди». Хотя как они могли «поверить в чуму, которая разом отменяет будущее, все поездки и споры?». Люди «считали себя свободными, но никто никогда не будет свободен, пока существуют бедствия».
— Ответьте мне положа руку на сердце, вы действительно считаете, что это чума?
— Вы не так ставите вопрос. Дело не в терминах, дело в сроках.
— Значит, по вашему мнению, — сказал префект, — чума это, нет ли, все равно следует принять профилактические меры, предписываемые на случай чумных эпидемий?
— Если вам необходимо знать мое мнение, считаю, что это так.
— Следовательно, нам придется взять на себя ответственность и действовать так, словно болезнь эта и есть чума.
«Формулировка была горячо поддержана всеми присутствующими», а потому «первое, что принесла нашим согражданам чума», стало «заточение». Горожанам «вменялось в обязанность заявлять о всех случаях заболевания, а больные в обязательном порядке подлежали изоляции». Дома, где обнаруживались больные, «предписывалось очистить и продезинфицировать; люди, находившиеся в контакте с больными, обязаны были пройти карантин».
Поначалу все «безропотно примирились с тем, что отрезаны от внешнего мира, как примирились бы они с любой временной неприятностью, угрожавшей лишь кое-каким их привычкам». Однако с постепенным осознанием попадания «в темницу» стали смутно пробиваться догадки, что «заключение угрожает всей их жизни». Вдруг «наши сограждане действительно начали отдавать себе отчет в своем положении», хотя неизвестно, эти изменения произошли «в атмосфере самого города или в человеческих сердцах».
Правда, жители «с трудом отдавали себе отчет в том, что с ними приключилось». Фактически «никто еще не принимал эпидемии». Большинство лишь «страдало, в сущности, от нарушения своих привычек или от ущемления своих деловых интересов». Это «раздражало или злило, а раздражение и злость не те чувства, которые можно противопоставить чуме». И даже «когда на третью неделю появилось сообщение о том, что эпидемия унесла триста два человека, эти цифры ничего не сказали нашему воображению». Может, «вовсе не все они умерли от чумы», да и «никто в городе не знал толком, сколько человек умирает за неделю в обычное время». В «известном смысле публике недоставало материала для сравнения».
Наступление
Постепенно «солнце чумы приглушало все краски, гнало прочь все радости». Чума оказалась неким административным механизмом, осмотрительным, безупречным, во всяком случае функционирующим безукоризненно».
Обычно население «весело» приветствовало приход лета. А «нынешним летом море, лежавшее совсем рядом, было под запретом». У «пирса стояло лишь с пяток кораблей, задержанных в связи с карантином». Возле причалов скопились «огромные, ненужные теперь краны, перевернутые набок вагонетки, какие-то удивительно одинокие штабеля бочек или мешков — все это красноречиво свидетельствовало о том, что коммерция тоже скончалась от чумы».
Другое дело, что хотя «существовали общие для всех чувства, скажем, разлуки или страха, но для многих на первый план властно выступали свои личные заботы». Правда, звучали и такие мысли: «Эта история касается равно нас всех» или «Стыдно быть счастливым одному». В унисон чему на другом берегу проявлялось желание не изменить своим привычкам, продолжая получать от жизни то же и так же, как и в «дочумное» время.
Вместе с тем, параллельно окутывавшему людей страху из-за обилия смертей, по рукам стали ходить «различные прорицания, почерпнутые из высказываний католических святых или пророков». Владельцы городских типографий «быстренько смекнули, какую выгоду можно извлечь из этого поголовного увлечения, и отпечатали во множестве экземпляров тексты», циркулировавшие по всему городу. Заметив, что «это не насытило жадного любопытства публики, дельцы предприняли розыски, перерыли все городские библиотеки и, обнаружив подходящие свидетельства такого рода, рассыпанные по местным летописям, распространяли их по городу».
Поскольку же «летопись скупа на подобные прорицания, их стали заказывать журналистам». Некоторые из «пророчеств печатались подвалами в газетах», читатели «набрасывались на них с такой же жадностью», как ранее «на сентиментальные историйки». Некоторые из такого рода «прорицаний базировались на весьма причудливых подсчетах, где все было вперемешку: и непременно цифра тысяча, и количество смертей, и подсчет месяцев, прошедших под властью чумы».
Отступление?
Внезапно «кривая смертности так резко пошла вниз, что после консультации с медицинской комиссией префектура объявила» эпидемию пресеченной. Однако в сообщении добавлялось, что «из соображений осторожности» город останется закрытым еще на две недели и профилактические мероприятия будут проводиться в течение целого месяца. Если за этот период времени появятся малейшие признаки опасности, «необходимо будет придерживаться статус-кво со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Правда, жители города «склонны были считать это добавление чисто стилистическим ходом», и в первый же посткарантинный вечер «на залитые ярким светом улицы, под холодное чистое небо высыпали группками наши сограждане, смеющиеся и шумливые».
Конечно, «во многих домах ставни так и не распахнулись, и семьи в тяжком молчании проводили это вечернее бдение, звенящее от возгласов толпы». Но эти исключения «не умаляли радость других».
Разумеется, «чума еще не кончилась, она это еще докажет», а «каждый уже заглядывал на несколько недель вперед, представляя себе, как со свистом понесутся по рельсам поезда, а корабли будут бороздить сверкающую гладь моря». Вслушиваясь «в радостные клики, идущие из центра города», врач вспомнил, что «любая радость находится под угрозой». Ведь он знал то, «чего не ведала эта ликующая толпа и о чем можно прочесть в книжках, — что микроб чумы никогда не умирает, никогда не исчезает, что он может десятилетиями спать где-нибудь в завитушках мебели или в стопке белья, что он терпеливо ждет своего часа в спальне, в подвале, в чемодане, в носовых платках и в бумагах и что, возможно, придет на горе и в поучение людям такой день, когда чума пробудит крыс и пошлет их колевать на улицы счастливого города».
На такой вот ноте завершается роман. Но автор посчитал возможным познакомить читателя с еще одной парадигмой «Чумы»
Проповеди
Важнейшим лейтмотивом романа высвечивается аспект веры в Бога. Как верить? Почему? Вера – это необходимость? Потребность? Обязательность? Дань традициям?
«Большинство наших сограждан, если даже они еще не окончательно отвернулись от выполнения религиозных обязанностей или не сочетали их слишком открыто со своей личной, глубоко безнравственной жизнью, восполняли обычные посещения церкви довольно-таки нелепыми суевериями».
Они предпочитали «не ходить к мессе, зато носили на шее медальоны, обладающие свойством предохранять от недугов, или амулеты». В качестве иллюстрации «можно привести неумеренное увлечение» жителей «различными пророчествами». Суеверия «прочно заменили» им религию.
К своим размышлениям о месте веры в жизни человека А. Камю подходит через призму (в том числе) двух проповедей героя-священника. В первой из них священнослужитель громогласно восклицает:
«Вы полагали, что достаточно один раз в неделю, в воскресенье, зайти в храм Божий, дабы в остальные шесть дней у вас были развязаны руки. Вы полагали, что, преклонив десяток раз колена, вы искупите вашу преступную беспечность». Но «эти редкие обращения к небу не могут удовлетворить Его ненасытную любовь. Ему хочется видеть вас постоянно, таково выражение Его любви к вам, и, по правде говоря, единственное ее выражение».
Вот почему, «уставши ждать ваших посещений, он дозволил бичу обрушиться на вас, как обрушивался он на все погрязшие во грехах города с тех пор, как ведет свою историю род человеческий». Теперь «вы знаете, что такое грех», как знали это «жители Содома и Гоморры, как знали фараон и Иов, как знали все, кого проклял Бог». Подобно всем им, с того момента, как «город замкнул в свое кольцо и вас, и бич Божий, вы иным оком видите все живое и сущее», понимая теперь, «что пора подумать о главном». Ибо с распространением эпидемии «человека ведут к добру» не «благие советы и рука брата», а «ныне указует истина». Путь к спасению показывает «также багровое копье, и оно же подталкивает вас к Богу», в основе чего — «небесное милосердие, вложившее во все сущее и добро и зло, и гнев и жалость, и чуму и спасение». Бич, который «жестоко разит вас, возносит каждого и указует ему путь».
Следующая проповедь произносится священником в разгар смертоносности чумы, да еще на фоне его прямого столкновения со смертью ребенка. Она происходит на глазах священника и врача, позицинирующего себя атеистом:
— У этого-то, надеюсь, не было грехов — вы сами это отлично знаете!
— Это действительно вызывает протест, ибо превосходит все наши человеческие мерки. Но быть может, мы обязаны любить то, чего не можем объять умом.
— Нет, отец мой, у меня лично иное представление о любви. И даже на смертном одре я не приму этот мир Божий, где истязают детей.
Не аналогично ли Ивану Карамазову рассуждает врач? Вспомним, что Иван заявлял о своем отказе «от высшей гармонии», не стоящей «слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»!». «Я не богохульствую!» — убеждал Иван. Ибо «не Бога» он не принимал, а «мира, Им созданного»(6).
Священник размышляет... переживает... сомневается... изъедает себя. И во второй его проповеди, как о том говорится в романе, он уже употребляет местоимение «мы», отказываясь от произношения «вы».
«Всегда можно извлечь поучение», а «самое жестокое испытание» является благом для верующего, который «как раз в данном случае и должен стремиться к этому благу, искать его, понимать, в чем оно и как его найти». Да, «существуют добро и зло, и обычно каждый без труда видит различие между ними», но когда «мы доходим до внутренней сущности зла, здесь-то и подстерегают нас трудности». Безусловно, есть «зло, внешне необходимое, и зло, внешне бесполезное». К примеру, Дон Жуан, «ввергнутый в преисподнюю, и кончина невинного ребенка» — то есть, «если вполне справедливо, что распутник сражен десницей Божьей, то трудно понять страдания дитяти».
Ныне Бог «проявил милость к творениям своим, наслав на них неслыханные беды, дабы могли они обрести и взять на рамена свои высшую добродетель, каковая есть. Все или Ничего». Всякий «грех смертей и всяческое равнодушие преступно», поэтому верующий «должен уметь отдать себя в распоряжение воли Божьей, пусть даже она неисповедима». Нельзя же произнести, что «это я понимаю, а это для меня неприемлемо; надо броситься в сердцевину этого неприемлемого, которое предложено нам именно для того, дабы совершили мы свой выбор».
Во время чумы нет «и не может быть островка, середины не дано», каждому «надлежит сделать выбор между ненавистью к Богу и любовью к Нему». Без сомнений, «это не значит, что следует отказываться от мер предосторожности, от разумного порядка, который вводит общество, борясь с беспорядком стихийного бедствия». Нельзя слушать «тех моралистов, которые твердят, что надо-де пасть на колени и предоставить событиям идти своим чередом». Конечно, важно «оставаться на месте, положиться со смирением на Господа» и «не искать для себя прибежища». Но при этом нужно «потихоньку пробираться в потемках, возможно даже вслепую, и пытаться делать добро» (позволим себе здесь провести аналогию с кораническим призывом состязаться «в добрых делах» (Коран, 5: 48)).
Сколько же всего пропустил через себя А. Камю, чтобы рассуждать устами героя-священника именно так, а не иначе! По убеждению автора, проповеди — квинтэссенция романа. Потому что эти рассуждения — сердцевина размышлений писателя-философа.
Что есть смысл жизни? В чем он? Идентичен ли внутренний мир людей? Что двигает деяниями человека? Как определить веру? Эти и масса других вопросов как раз сконцентрировались в проповедях. Потому их две. В них много объединяющего, но в то же время подход к освещению вечных вопросов разнится.
А как может быть иначе, если данные нюансы столь важны для всего человечества? К тому же у каждого ведь свое восприятие действительности, неповторимые внутренний мир и взгляд на окружающую действительность. Тонкость, однако, в том, что А. Камю удается затронуть самые потаенные человеческие струны с их сомнениями и убежденностью. Убежденностью и сомнениями. А это возможно только в том случае, если в попытке докопаться до истины писатель полностью искренен, прежде всего, с самим собой. А. Камю же как бы (или вполне очевидно?) делится с читателем своими переживаниями.
Связь с миром
Хотя здесь нет ничего неожиданного, поскольку в одной из записей в своем дневнике А. Камю признал, насколько его «привлекает связь между миром и» им самим, когда «движение идет не от меня ко мне, но от мира ко мне и от меня к миру»(7).
Вот эта связь проявляется во всех произведениях А. Камю, высвечиваясь в «Чуме» в различных ипостасях. Опять-таки, возможно, потому, что здесь под особым углом проявляются думы писателя о религии и вере. Тем более, что если внимательно вслушаться в обе проповеди, то невольно задумаешься – а так ли однозначно А. Камю можно считать сущностным атеистом?
Этот вопрос возникает далеко не потому, что в одной из дневниковых записей писатель записал: «Я и в Бога не верую, и не атеист»(8). Дело в том, что священник рассуждает о добре и зле, безысходности, отчаянии, сомнении и надежде. Да и вся книга проникнута не «борьбой идей» врача и священника, а размышлениями об их возможной стыковке, в свете чего один из героев задается вопросом: «Возможно ли стать святым без Бога?».
Здесь, кстати, можно позволить себе вспомнить «Закон вечности» Нодара Думбадзе, где одной из сюжетной линий также проходит беседа-дискуссия коммуниста-атеиста (писателя) и священника. Но и там далеко не все так однозначно, ежели Н. Думбадзе вкладывает в уста последнего следующее (когда тот ранним утром обращается ко Всевышнему, будучи убежден, что писатель спит):
«Вот лежит перед вами раб божий... Не гневайтесь на него за то, что дела ваши творит он от имени других. .. Боже всесильный, будь покровителем и хранителем ему и дай ему побольше сроку, прежде чем предстать перед тобой, ибо чем дольше он будет жить на этом свете, тем больше посеет в созданном тобою мире добра и милосердия»(9).
Нужны ли тут дополнительные комментарии, в особенности если Н. Думбадзе тончайшими мазками продемонстрировал, что коммунист-атеист не совсем уж однозначно отторгал Всевышнего?
В целом, роман А. Камю очень ненавязчиво приоткрывает завесу над тем, насколько важно ценить и беречь то, что имеешь. Не относиться потребительски к сегодняшнему дню, к своему ближайшему и не очень окружению. К тому, что в одночасье может разрушиться, не повториться и не вернуться.
Естественно, произнести это легко. А вот реализовать? Кто бы сомневался, как легко и вольготно плыть по течению. Но вот приостановить свой темп со звучным крещендо и разобраться, куда спешим, почему, во имя чего (забывая все светлое и красивое) очень сложно. Но тогда куда прибежим?
Да, роман «Чума» — об эпидемии, как экзамене для всех: государства, общества, каждого из его членов (в отдельности и в соавторстве с другими). Подтолкнет ли отчаяние к пропасти? Или желание жить и творить не пропадет? Быть может, нужно просто попытаться предпринять новый шаг — во имя Жизни, в которой кому-то нужна твоя помощь... слово поддержки... улыбка... рука на плече.
Потому А. Камю и пишет о важности сохранения каждым человечности. Вполне очевидно, что кто-то может стараться двигаться в этом направлении за счет профессионального отношения к делу, вторые — на основе внутренней дисциплины и ответственности, третьи — через веру и соблюдение постулатов, четвертые — по чьей-то личной просьбе, пятые, десятые, сотые....Главное, чтобы подсчет не закончился и наступило очередное светлое утро!
Ин ша Аллах!
1.Здесь и далее цитаты из этого произведения приводятся по: Альбер Камю. Чума
2.Альбер Камю
3.Альбер Камю Миф о Сизифе. Эссе об абсурде
4.А. Камю. Шведские речи
5.Альбер Камю. Письма к немецкому другу: письмо четвертое
6.Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы
7.Д. В. Смирнов. Камю
8.Альбер Камю. Записные книжки. Март 1951 – декабрь 1959
9.Нодар Думбадзе. Закон вечности


 Quran
Quran




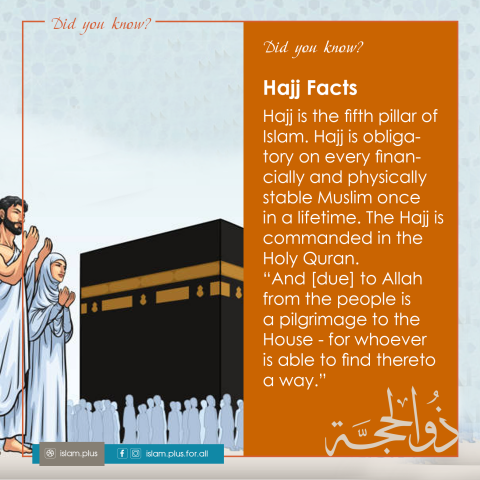
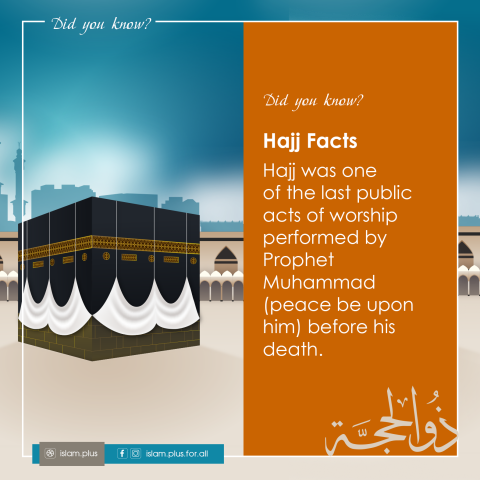
Add new comment