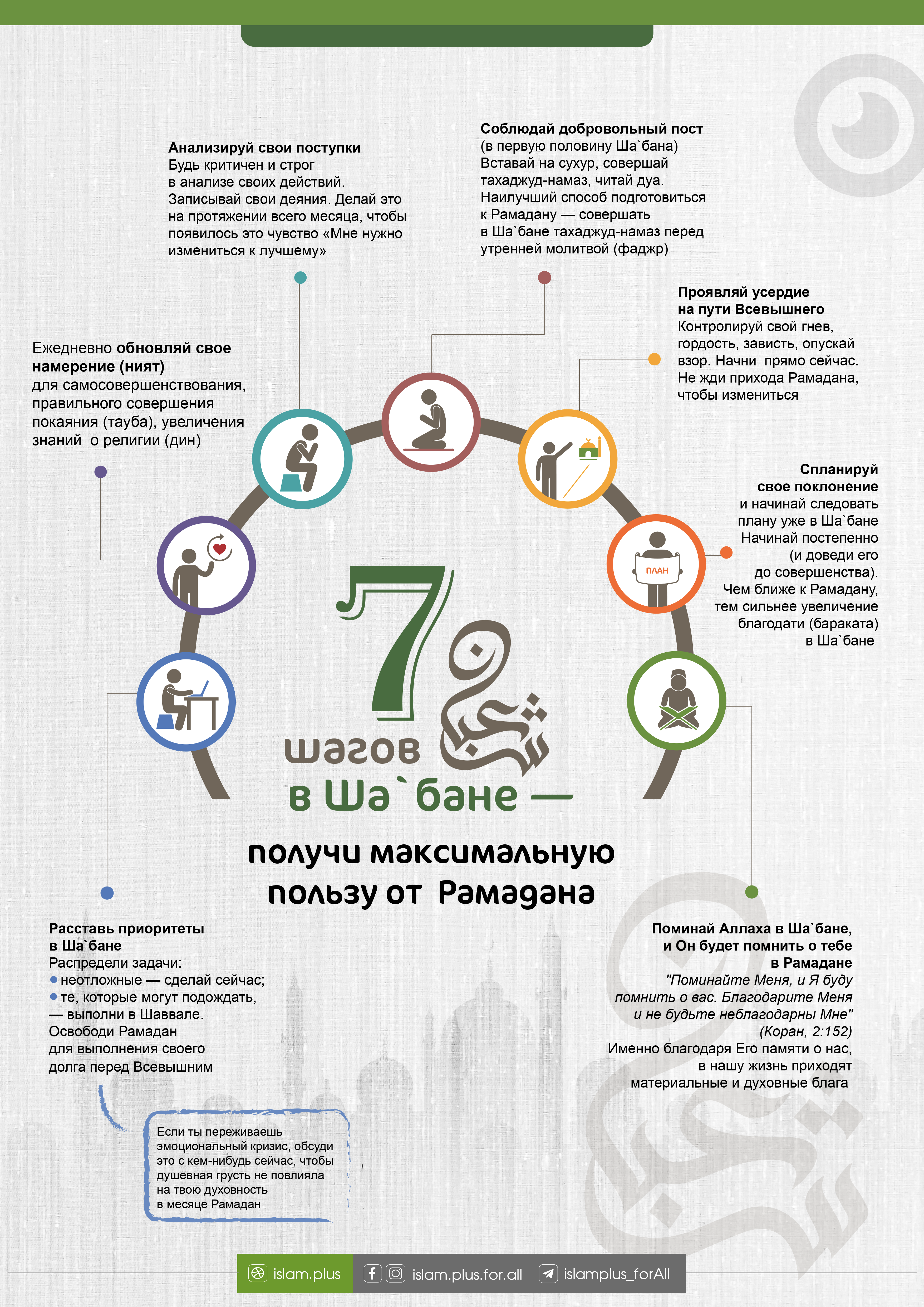Хасан Азад
В этой беседе Талал Асад излагает проблематику того, как характеризуется присутствие мусульманских общин в западном контексте в ответ на вспышки насилия, такие как недавние события в Париже.
Асад утверждает, что значительная часть критики, которой подвергаются мусульмане, в частности, за зависимость от трансцендентальных сил, также верна в отношении интеллектуальных допущений светских и атеистских комментаторов.
Далее он говорит о необходимости изучения ислама как «традиции» во избежание огульных обобщений, сосредоточив внимание на многогранности и особенностях практики ислама. Пока ислам не будет помещен в исторический контекст как традиция, мы обречены и дальше слушать призывы к «реформе» религии и не уметь противостоять первопричинам недавних вспышек насилия.
Интервью взято 17 января 2015 года в Нью-Йорке.
─ Действительно ли мусульмане принадлежат Западу? Этому вопросу уже много лет, но, наверное, никогда не звучал он с такой силой, как сегодня. В Вашем очерке «Мусульмане как “религиозное меньшинство” в Европе», написанном более десятилетия назад, Вы утверждаете, что «мусульмане не могут быть представлены в Европе как мусульмане». Иногда на Западе преподносят «столкновение цивилизации» как нечто неизбежное, Вы согласны с этим?
─ Нет, я не думаю, что есть такая вещь, как «столкновение цивилизаций». Когда я сказал, что мусульмане не могут быть представлены на Западе как мусульмане, это была ирония, а также констатация того факта, что в 90% случаев, когда говорят о «проблеме мусульман на Западе», это жалоба на то, что мусульмане не «интегрированы». Очень редко всерьез обсуждают, что значит быть европейцем, что значит быть французом, британцем и так далее, что именно значит «секуляризм» в Европе для религии в целом и ислама в частности. На проблему всегда смотрят так, что либо «мы должны стараться больше для их интеграции, либо это они виноваты в том, что не интегрируются, а все потому, что они привязаны к нелиберальной религии и ценностям, которые находятся в глубоком конфликте с нашим секулярным эгалитарным обществом».
То есть, проблему рассматривают в плане того, почему «они» не вписываются в то, что принято считать «нашим» обществом, вместо того, чтобы ответить на вопросы: в Европе, Франции или Британии «мы» — это кто или что? и что «мы» должны изменить в себе, чтобы мусульмане (которые тоже должны меняться) воспринимались в Европе именно как мусульмане?
Проблему всегда видят в ассимиляции мусульман в Европу (имеющую фиксированное устройство и самобытность), если мусульмане имеют добрые намерения по отношению к европейцам, а если нет, то нам говорят «вы не наши, возвращайтесь туда, откуда приехали».
В XVI веке Европа не была такой, как сейчас, на самом деле она была даже не «Европой», а «христианским миром». И потом в силу секуляризации она продолжала меняться — в политическом, экономическом, культурном смысле… Я сейчас говорю как человек, который большую часть жизни прожил на Западе.
Между прочим, я думаю, что термин «Запад» действительно может употребляться в разных ситуациях: не всегда его следует отвергать как бессмысленный («нет такой вещи, как Запад»), хотя и не нужно его использовать направо и налево с нелепым восторгом, как делают некоторые, когда говорят, «Запад сделал то, Запад сделал это». Но я считаю, что этот термин имеет право на существование. Подумайте: если есть государства, если есть генералы, политики, банкиры и даже простые люди, которые говорят «Запад» о Европейском и Североамериканском континентах, то значит Запад все-таки есть. Потому что мы сами нашими собственными действиями предопределяем его наличие. И предопределяя его, мы отчасти создаем его — плохо это или хорошо.
Я говорю это потому, что теперь я, в какой-то степени, отношусь к Западу, к людям на Западе, кого мы считаем культурными партнерами, согражданами, независимо от того, враждебны они или дружественны. Я думаю, я должен помнить, конечно, что я не могу говорить только как «мусульманин в Европе», потому что я говорю и как человек, живущий на Западе. И в этих ситуациях я могу говорить о «нас» даже без какого-либо ощущения несообразности.
─ Недавнее убийство десятка журналистов сатирического журнала «Шарли Эбдо» в Париже снова воспламенило в Европе гнев по отношению к мусульманам. По поводу датского «карикатурного скандала» 2005 года в своей статье «Свобода слова, богохульство и критика секуляристов» (Free Speech, Blasphemy, and Secular Criticism (2009)) Вы указали на проблему отвержения секуляризмом трансцендентального и на то, что высокомерие такой позиции коренится в секуляризации библейского утверждения, что правда освободит нас. Можно ли считать мусульман «святотатцами» в отношении заповедей секуляризма?
─ Разрешите сначала обратиться к вопросу трансцендентальности. Мне кажется, что парадокс в том, что, хотя самопровозглашенные атеисты утверждают, что отвергают «трансцендентальное», на самом деле они находятся в подчинении (часто в добровольном подчинении) у трансцендентальных сил, таких как трансцендентальность рынка, который является ключевым элементом современного капиталистического общества, и трансцендентальность государственно-политической системы, в которой каждый живет в нашем мире и которая требует от своих граждан абсолютной лояльности.
И, конечно, трансцендентальность «свободы слова». В либеральном обществе мы утверждаем, что она священна и поэтому имеет абсолютный характер. Но мы знаем (или должны знать), что «свобода слова» обитает в структурированном пространстве: в либеральных обществах официально запрещена не только «пропаганда ненависти», но есть законы, регулирующие распространение материалов, защищенных авторским правом, и запрещающие воссоздание без разрешения торговых марок и патентов. И, конечно, нельзя нарушать государственные и коммерческие тайны, не подвергая себя риску сурового наказания, и это является одним из аспектов трансцендентальности современного суверенного государства.
Я не раз дискутировал по этому вопросу и уверен, что в либеральных обществах есть принципиальная разница между циркуляцией репрезентаций, воспринимающихся ими как свое достояние, и тех, что не воспринимаются таковыми. И заявления об априорности «свободы слова» не слишком убедительны в этом контексте.
Еще один пример проблемы «нерелигиозной» трансцендентальности — это, конечно, «человечество» и поклонение, которого оно требует. С ним очень тесно связано современное понятие культурно-нравственного прогресса с его бесконечным движением, которое переступает границы любых частностей и выше конкретных улучшений в какой-то конкретной сфере, исправления очевидных ошибок. Отвергать трансцендентальный, априорный прогресс человечества не значит обязательно принимать его статус-кво. Поэтому, мне кажется, ряд трансцендентностей нуждаются в критическом пересмотре.
Понятие «человечество» как одна из трансцендентностей происходит, по-моему, из убеждения в абсолютной власти интеллектуальности, из требования, предполагающего, что наше наилучшее поведение зависит от умения абстрактно мыслить в терминах некоего универсального закона о том, что называется «человечеством», и что мы должны понимать человечество абстрактно, чтобы иметь возможность поступать ответственно по отношению к его представителям. Но мне кажется, что вполне можно действовать человечно, гуманно по отношению к другим существам, будь то люди, животные или растения. Нужно просто научиться себя вести. Поступать «гуманно» вполне возможно, не зная понятия «человечества». Язык имеет множество узусов, привязанных к разным формам жизни, как указывал Витгенштейн. Не обязательно иметь эту великую концепцию «человечества», чтобы вести себя достойно.
Вдруг вспомнилось поразительное высказывание Аль-Газали: «Ах, иметь бы веру старухи из Нишапура!», что, как я пониманию, является, на самом деле, признанием важности глубокой веры на повседневном уровне, постижения трансцендентальности не столько интеллектом, сколько самой обыкновенной жизнью, которой живет человек.
Для глубокой веры не требуется интеллектуальность, равно как и для гуманного отношения к людям — нашим братьям, мусульманам или немусульманам. Мы не нуждаемся ни в каких концепциях, теориях, доводах разума, чтобы оправдать образ жизни, который уже есть, чтобы и дальше им жить. Это не значит, что интеллект вообще не нужен, это значит, что он — не самое главное, что нужно иметь, чтобы жить как человек. Речь пронизывает всю жизнь, и, конечно, разум важен для жизни, но это не значит, что интеллектуальность должна быть выше самой жизни.
В области права ясность языка и завершенность суждения имеют решающее значение, потому что необходимо вынести решение по делу, разобраться, уголовное оно или гражданское, и так далее. В обычной жизни нам не приходится принимать решения, имеющие окончательную силу. Нам не нужно принимать решение в теории, чтобы определенным образом вести себя с людьми. Конечно, во многих ситуациях нам не обойтись без ясности речи. Чтобы понять окружающий мир нам необходимы ясность, логика, способность к построению теорий. Но это понимание имеет тенденцию к улучшению, потому что и при условии, что оно приблизительно, гипотетично, тяготеет не к поискам окончательного доказательства (универсального), а к поискам опровержения в конкретном. Склонность к интеллектуализации одновременно необходима и опасна. Я думаю, в нашем современном мире мы больше понимаем ее важность, чем опасность, и поэтому я рассматриваю ее как одно из выражений трансцендентальности.
А теперь хотелось бы перейти к вопросу о богохульстве. Иногда меня спрашивают: «Готовы ли Вы критиковать религию?» Я предпочел бы ответить на этот вопрос, рассмотрев то, что люди говорят, что формулируют, как проживают свою жизнь, и постольку, поскольку концепция религии сама по себе представляется трансцендентальной, я считаю, что ее необходимо рассматривать критически и с осторожностью.
То есть, я критикую не религию как таковую, а концепцию и определение «религии», как я сказал в «Генеалогии» [Genealogies of Religions]. Я не ищу лучшего определения. Я не критикую, как люди переживают то, что они называют духовностью. Меня интересует критический поиск в иной плоскости: как люди используют свой язык, чтобы формулировать теории о том, что они называют религией, к примеру, что «в исламе религия и политика неразрывно связаны», или чтобы утверждать, что «насилию нет места в религии».
Поэтому нельзя сказать, что для «нерелигиозных» людей трансцендентальность полностью чужда. Я считаю, что большинство вещей (не все), которые эти люди принимают как трансцендентальные, опасны, потому что они вредят мысли и жизни.
─ Насколько я понимаю, отчасти к этой проблеме привело овеществление ислама, и я думаю, что в этом виноваты как мусульмане, так и их противники. Ваше эссе «Идея антропологии ислама» (The Idea of an Anthropology of Islam, 1986) сыграло заметную роль в перестройке научного дискурса об исламе. Вы пишете, что «к исламу как предмету антропологического понимания следует подходить как к дискурсивной традиции, которая различным образом связана с формированием нравственного «я», манипулированием населением (или сопротивлением ему) и производством соответствующих знаний». Можете ли Вы описать, как этот подход может помочь «разовеществлению» ислама?
─ Прежде всего, в этой работе я говорю об исламе как об «антропологическом объекте», в антропологии это наиболее продуктивный подход к вопросу «что такое ислам?».
Овеществление? Стоит подумать о том, зачем использовать слово «овеществление». Этот термин означает превращение в вещь того, что вещью не является (но что такое «вещь»?). Существует множество философских теорий овеществления, в частности марксистская общественно-экономическая теория. Когда говорят, что ислам овеществлен, то что под этим имеется ввиду?
Полагаю, одна из причин подозрительного отношения людей к «овеществлению» заключается в том, что оно подразумевает определенную закрытость, некую фиксированность, невозможность изменений. Что беспокоит в «овеществлении» ислама? Это понятие исключает возможность изменений и слишком сильно обобщает? В таком случае, каковы альтернативы? Как следует об этом говорить? Поэтому я думаю, что полезен подход к исламу как к традиции.
Традиция помогает сфокусироваться на вопросах об авторитете и темпоральности и о языке, используемом в отношении них. Идея традиции помогает нам понять вопросы и доводы, считающиеся важными внутри традиции, а также сформулировать продуктивные вопросы о традиции извне. Другими словами, «традиция» дает двойной смысл: задает теоретические рамки для постановки вопросов и является эмпирическим феноменом, который можно описывать и анализировать даже в процессе развития.
Как я сказал, вопрос в том, как подходить к объекту исследования. Рассматривая ислам как традицию, никто не говорит, что «все люди это делают или верят в это». Никто не говорит, что все люди, которые идентифицируют себя как мусульмане, обязательно следуют Корану и сунне.
Предполагается, что есть определенного рода связь, которая может реализовываться или не реализовываться в конкретных ситуациях — когда люди пытаются говорить об исламе как об особом интеллектуальном объекте. Я подразумеваю интеллектуалов, особенно антропологов, для которых это важный вопрос. Так как же задавать интересующие вопросы об исламе как об антропологическом объекте, не путая его с «реальностью» (актуальным опытом) разных мусульман? Как соотнести их ощущение принадлежности или непринадлежности, «сильной» или «слабой» веры с авторитетом и темпоральностью?
Кстати, я все чаще, уже несколько лет, предпочитаю использовать термин «правоверные», вместо «верующие». По сути, «муминин» — это «правоверные», а не «верующие». Слово, которое приобрело сильные, но часто вносящие путаницу, современные значения.
Часто думают, что верующие — это люди, которые обладают личной убежденностью или лично отрицают что-то, тогда как слово «правоверный» относится к отношению, кстати, тот же смысл оно имело в долиберальном христианстве. В данном случае, я не хочу сказать, что «правоверный» относится только к внешнему поведению в отличие от внутренних убеждений — «правоверный» относится к акту. Даже если взять объявление нията при произнесении молитвы, то это в известном смысле своего рода акт, часть традиции, которой вы должны научиться. Но это не значит, что я хочу сказать, что не надо верить по-настоящему. Это значит, что необходимо отойти от современного представления о религиозной вере как о чем-то «сугубо личном», на что человек имеет право до тех пор, пока он не делает публичных политических заявлений.
На мой взгляд, мы должны думать об исламской традиции как о способе задавать вопросы, которые идут вразрез (и выходят за границы) предположений сугубо секулярного мира, в котором мы уже знаем, как обстоят дела для индивидуумов и обществ. Я думаю, необходимо рассматривать традицию именно так, а также использовать это слово и в других случаях, как использую я, чтобы эмпирически описать, как люди следуют, или не следуют, той или иной традиции.
─ Что меня заинтересовало, когда я занимался своим исследованием, это как конкурирующие дискурсивные традиции в исламе (к примеру, салафиты и суфии как два диаметрально противоположных течения) взаимодействуют друг с другом, таким образом, видоизменяя друг друга, не обязательно затрагивая при этом сердцевинный смысл. Точно так же ислам и секуляризм (два полярных примера) видоизменяли друг друга очень долгое время — и продолжают видоизменять. Можете ли Вы немного рассказать о внутренних сложностях ислама как группы конкурирующих дискурсивных традиций, вместе с добавленным в эту смесь секуляризмом?
─ Я думаю, что у А. Макинтайра (Alasdair McIntyre) очень плодотворные рассуждения о традиции, открывшие целую новую область мышления о мире. Они очень помогли мне в размышлениях об исламе. Он говорит, что для живой традиции характерна полемика, и я считаю, что это имеет ключевое значение. Если традиция является живой традицией, в ней происходит диспут, спор о том, что в ней главное, что ей по большому счету свойственно, характерны ли этой традиции литературные памятники (устные или письменные), о поведении, установках, принципах и т.п., как определяется ее контекст. Я думаю, что это абсолютно центральное понятие.
Полемика о том, какие тексты, литературные памятники — за исключением фундаментального дискурса — ей принадлежат или не принадлежат, можно ли их искажать из-за того, как они влияют на суть традиции, — все это исключительно важно для того, чем является живая традиция. И, конечно, это не обходится без споров о том, что такое «секулярное» — в приемлемой или неприемлемой форме.
Именно понятие, которое определяет нечто ключевое в традиции, и порождает полемику внутри традиции, а также дает возможность диалога (а не только спора) как внутри данных традиций, так и между ними. Диспут между традициями таких разных мазхабов (ханафитского, шафиитского, ханбалитского, маликитского и т.д.), между шиитами и суннитами, салафитами и суфиями, позволяет им не только интеллектуально влиять друг на друга, но и определять самих себя, ссылаясь на то, чем они не являются. (Кстати, поэтому я считаю ужасным тот взаимный антагонизм и насилие, которые имеют место в стольких мусульманских странах). Но я не уверен, что все это — независимо от степени жестокости — можно назвать конкуренцией. Конкуренция как метафора несет на себе такую коммерческую нагрузку (накопление прибыли, например), что это может задать ложное направление.
Я также не уверен, что всегда полезно стереотипное противопоставление салафитов и суфиев, хотя бы потому, что каждый из этих терминов охватывает множество переменных. В арабоязычном мире, если сравнивать «салафитов», какими они были в конце XIX века (например, Абдух), с египетскими «салафитами» начала XXI века (на которых повлиял ваххабизм) — это не одно и то же. Точно так же различаются братства «суфиев». Если салафиты и суфии — диаметрально противоположны, как понимать, скажем, то, что один из вдохновителей сегодняшних салафитов, Ибн Таймийя был членом тариката?
Каждый до определенной степени, так или иначе, помещен в то, что я называю «нарративными отношениями» с традицией, когда продолжение или исчезновение этой традиции либо важны, либо неважны. Поэтому я бы сказал, что «верующие» именно вовлечены в попытки либо обогащения и реформирования той или иной традиции в связи с возникающими перед ней вызовами, либо ее защиты — или разрушения. И эти возможности применимы и к «секуляристам». Секуляристы так же являются частью всей совокупности и пространства духовного, как и все остальные, то есть «этот мир» для обоих важен по многим причинам. Но установку по отношениюк этому миру, манеру обитания в нем, иногда путают с вопросом веры (или неверия) в «иной мир».
─ Быть мусульманином в западном мире, который считает тебя «другим» — это давняя проблема. С некоторых пор мне кажется целесообразным подумать о том, как сами мусульмане интернализируют этот нарратив об инаковости. Какими Вы видите возможные варианты действий для мусульман, живущих на Западе?
─ Тот факт, что кто-то является «другим», не значит, что с ним нельзя иметь продуктивных отношений. Я не знаю, плохо ли это, «интернализация» того, что кому-то или о ком-то говорит «Запад», только в силу самого этого факта; это зависит от того, как происходит интернализация, каково ее влияние. На самом деле вопрос в том, связан ли «другой» с «я», если да, то насколько и как?
Есть одно, хотя и не широко известное, утверждение Витгенштейна, заставляющее задуматься. Он сказал:
«Традиция — это не то, чему можно научиться, не нить, которую можно уловить, если она ускользнула; это столь же невозможно, как подобрать себе своих собственных предков. Человек, лишенный традиции, но жаждущий иметь ее, похож на несчастного влюбленного».
Традиция — это стремление связать Себя с Иным. «Интернализовать» Иного — значит, обрести ощущение того, что такое собственная традиция, к которой принадлежишь и которая придает приемлемую форму твоей жизни.
Что делать мусульманам на Западе? Не думаю, что на этот вопрос можно ответить однозначно, потому что мусульмане на Западе — это не единая гомогенная в социологическом и теологическом отношении группа. Тем не менее, на них смотрят и будут продолжать смотреть как на меньшинство в западном национальном государстве. И учитывая широкомасштабное насилие, совершаемое вооруженными до зубов западными государствами и вооруженными джихадистами (симбиотические отношения, если можно так выразиться), мусульманские меньшинства на Западе будут и впредь объектом подозрений и дискриминации.
В этом вопросе нас должны волновать не поиски виновных, а то, чтобы попытаться понять границы, в которых должны действовать мусульманские меньшинства. Широко распространенное мнение, что мусульманам следует провести реформу собственной религиозной традиции, чтобы помочь предотвратить «насилие исламских экстремистов», подразумевает, что мусульмане составляют единый политический субъект, что они полностью довольны собой и что реформа, фактически, не осуществляется на протяжении всей исламской истории. Те, кто призывает к теологической реформе для эффективного осуждения джихадизма (особенно после парижских убийств в редакции «Шарли Эбдо» и еврейском магазине), должны сначала разобраться в новизне этого феномена: исламская традиция во всем своем разнообразии насчитывает много веков, и ведущие духовные авторитеты мусульман всегда осуждали подобные убийства. Почему же феномен джихадизма расцвел буйным цветом только сейчас?
Источник: Jadaliyya


 Коран
Коран