
Омар Эдвард Моад (Omar Edward Moad)
Уповать на Аллаха и привязывать своего верблюда
Всем нам хорошо известен хадис Пророка (мир ему и благословение), в котором он говорит: «Привяжи своего верблюда, и потом уповай на Аллаха» (Сунан ат-Тирмизи). Он весьма красноречиво отображает идеальные отношения Аллаха и творения, какими их видит ислам. Для объяснения некоторых скрытых философских смыслов этого подхода полезно пересмотреть аргументы, постоянно выдвигающиеся против него.
Представим, что кто-то уповает на Аллаха и привязывает своего верблюда, и, действительно, его верблюд оказывается на месте. Скептик может возразить: верблюда держит на месте либо Аллах, либо веревка. Если это веревка, то Аллах здесь ни при чем, значит упование на Него неоправданно. Если верблюда держит на месте Аллах, значит, дело не в веревке, тогда нет смысла его привязывать. Иными словами, либо бессмысленно привязывать верблюда, либо нет причины уповать на Аллаха.
Конечно, мы считаем, что смысл есть и в том, и в другом. Поэтому наш ответ должен состоять в том, что данное возражение строится на ложной дилемме. Но одно дело утверждать, и другое — показать. А показать это можно только в процессе окончательного прояснения данного вопроса для самих себя. Итак, в чем слабость данной скептической аргументации?
Во-первых, мы, безусловно, должны настаивать на том, что верблюд остался на месте благодаря Аллаху. Но во-вторых, мы должны отстаивать и то, что в привязывании верблюда есть здравый смысл. Точнее, здравый смысл есть в том, чтобы его привязывать, а не предпринимать что-то другое. Пророк (мир ему и благословение) не сказал: «Уповай на Аллаха и скрести пальцы» или, например, «Уповай на Аллаха и ешь овощи». Таким образом, мы не можем согласиться с тем, что раз верблюд по воле Аллаха остается на месте, то это происходит без помощи веревки, и пытаться объяснить совет «привязать верблюда» как-то иначе.
Более того, то, что привязанный верблюд останется на месте, известно не из откровения. Цель этого хадиса не сообщить о пользе привязывания верблюда. Это мы знаем из опыта. Хадис призывает нас, имея дело с материальным миром, полагаться на наши эмпирические знания о нем, и сообщает о том, что это не противоречит принципу упования на Аллаха, а, напротив, согласуется с ним.
Поэтому серьезное восприятие максимы «уповай на Аллаха и привязывай верблюда» значит признание того, что для удержания верблюда нужна веревка и что это известно посредством соприкосновения с материальным миром. Это значит, что для достижения своей цели будет эффективным уповать на Творца и использовать Его творения проверенным способом. Тем самым мы переходим в область того, что называется «методологическим натурализмом». Что это за область и в чем именно ее «натурализм»?
Определенные параметры области методологического натурализма становятся ясны из размышления над двумя, как нам кажется, аксиоматическими для любого мусульманина постулатами:
- если Аллах не захочет удержать верблюда, то веревка его не удержит;
- если Аллах захочет удержать верблюда, он останется на месте и без веревки.
Размышляя над этой парной взаимосвязью, верующий обнаруживает, что неверность утверждения о том, что верблюд остается на месте благодаря Аллаху, недоказуема. Если он оставит верблюда непривязанным и обнаружит, что тот ушел, он заключит, что так пожелал Аллах, а если верблюд останется, то это тоже воля Аллаха. Таким образом, никакой результат не опровергает утверждение о том, что все произошедшее с верблюдом произошло по воле Аллаха. Значит, мы благополучно можем согласиться, что оно не является научным, если считать, что опровергаемость является обязательным условием «научности» (см. Карл Поппер, «Логика и рост научного знания»).
Но мы должны опровергнуть ожидаемое утверждение скептика, что, если верблюд заблудится, то упование на Аллаха неуместно. Просто потому, что цель упования на Аллаха не в том, чтобы верблюд не потерялся. Таким образом, факт того, что верблюд остался или заблудился не может считаться проверкой утверждения об уместности упования на Аллаха. Упование на Аллаха имеет совершенно иную цель. И поэтому мы благополучно можем допустить, что утверждение о том, что уповать на Аллаха уместно — неопровержимо и, таким образом, ненаучно. И напротив, утверждение, что (при прочих равных условиях) привязанный верблюд останется на месте, вполне поддается опровержению. Таким образом, оно является подходящим предметом для научного эксперимента. Испытывать можно веревку, но не Аллаха.
И, наконец, скептик, вероятно, задаст следующий вопрос: учитывая наше утверждение, что если Аллах не захочет удержать верблюда, то его не удержит и веревка, и что если того пожелает Аллах, верблюд заблудится с привязью или без, какова в данном случае роль веревки?
Этот вопрос, конечно, не нов. Настаивая на том, что в привязывании верблюда есть здравый смысл, мы берем на себя смелость считать веревку «вторичной причиной» в классическом смысле, чтобы отличить ее от «первичной причины», которой в любом случае является Аллах. Это различие было отмечено уже давно, и, пожалуй, его достаточно для обоснования нашей теологической позиции. Но допущение, что мы хотим, если можно так выразиться, «привязывать своих верблюдов» на некой систематической и научной основе, дает нам повод тщательно проанализировать, что значит «вторичная причина», и не только выяснить разницу между первичной и вторичной причинностью, но и отличать вторичную причинную связь от иных, непричинных, отношений в системе мироздания.
Как известно, в 17-м диспуте своего сочинения «Тахафут аль-фаласифа» (Самоопровержение философов) аль-Газали утверждает, что «бытие с» некой вещью не равно «бытию посредством» этой вещи, отличая, таким образом, первичную причинность («бытие посредством») от вторичной причинности («бытие с»), и относя первую к одному лишь Аллаху, а вторую — к творению. Это приемлемо с теологической позиции самой по себе. Но практические занятия наукой — «привязывание верблюда» с умом — требуют признания того, что одно «бытие с» не всегда идентично другому. Жизнеспособная исламская философия науки требует не только разделения первичной и вторичной причинности, но и анализа вторичной причинности, который объяснил бы разницу между вторичной причинностью и непричинными формами корреляции (допуская, что вторичная причинность есть некой формой корреляции).
На данный момент перед нами две задачи. Одна заключается в том, чтобы дать точное определение концепции методологического натурализма и ее границ. Вторая — в том, чтобы осуществить конструктивный научный анализ вторичной причинности. Однако мы ограничимся рассмотрением первой.
Современная наука и природа методологического натурализма
Что касается вопроса методологического натурализма, хотелось бы начать с некоторых критических замечаний к статье Нидала Гессума (Nidhal Guessoum) «Обязательность взаимодействия калама с современной наукой» для аналитического центра Kalam Research and Media. Гессум считает методологический натурализм фундаментальной характеристикой современной науки. Методологический натурализм, как пишет он, «утверждает, что наука признает только те объяснения природных феноменов, которые опираются исключительно на естественные причины, и полностью игнорирует любое обращение к сверхъестественным силам, будь то духи, ангелы, демоны или даже Бог».
При этом Гессум позаботился о том, чтобы разграничить методологический натурализм и то, что он называет философским натурализмом (а мы — «онтологическим натурализмом»), по сути отрицающим существование любых сверхъестественных сущностей, в том числе, Бога. Методологический натурализм, напротив, есть лишь временное гипотетическое допущение онтологического натурализма с целью научного исследования. Несмотря на это, он продолжает быть причиной определенных противоречий между религиозными представлениями Ислама и современной наукой, которые не нивелируются путем уклонения от них.
Одно из таких противоречий, считает Гессум, заключается в том, «как примирить естественно-научные исследования, объясняющие мироздание, с верой в существующего/персонифицированного Бога. Проявляет ли Он Себя в мире, и, если да, то противоречит ли это современной науке? Или же Он не проявляет Себя в мире (по крайней мере, физически)?».
Сам Гессум отстаивает позицию «исключительно духовного проявления» (в любом смысле). Но поскольку современная наука на самом деле допускает условный онтологический натурализм для определенных методологических целей, а не в качестве содержательной метафизической позиции, то такой вопрос не должен возникать. Он может возникнуть, только если наша позиция будет состоять в том, что методы естественных наук применимы для того, чтобы установить наличие проявлений Бога в мире (или их отсутствие), причем если это будет нашей содержательной метафизической позицией. Это попытка связать Бога и мир в одно целое веревкой, которая годится только для верблюда.
Отсюда возникает вопрос, что же именно мы подразумеваем, когда условно допускаем онтологический натурализм, и с какой целью мы это делаем? На данный момент ответ на первый вопрос состоит в том, что мы просто допускаем несуществование сверхъестественного. Тогда в чем именно разница между ним и естественным? Гессум ничего не говорит на этот счет, только упоминает «духов, ангелов, демонов или Бога». Но что у них общего? Можно ли добавить в этот ряд еще и Деда Мороза, эльфов, снежного человека? Дело в том, что здесь, по-видимому, не применяется никакого принципиального различения, а без этого остается непонятным, что такое методологический натурализм. Но если он считается определяющей чертой современной науки, то как тогда вступать с ним в реальное взаимодействие? Можно только слепо подчиниться, либо слепо сопротивляться его эпистемологической гегемонии.
Что ж, давайте взаимодействовать. Если методологический натурализм тождественен условному допущению онтологического, то предполагается, что мы должны четко разграничить естественное и сверхъестественное в онтологических терминах. Например, с точки зрения классической исламской теологии, естественное можно идентифицировать с творением, а сверхъестественное — с Творцом. Взгляд, определяющийся влиянием классической философии, может состоять в том, что естественное имеет пространственно-временные границы и подвержено изменениям, а сверхъестественное — нет. Эти две точки зрения могут быть или не быть эквивалентными, в зависимости от метафизической позиции конкретного индивида. Тем не менее, ни одна из них не объясняет того, что подразумевает Гессум, потому что демоны, духи и ангелы принадлежат к творению, по крайней мере, на демонов (или джиннов) распространяются пространственно-временные границы — при условии, что мы воспринимаем исламскую онтологию всерьез, говоря о ее взаимодействии с современной наукой.
В отсутствие какого-либо четкого различия между естественным и сверхъестественным, определение методологического натурализма, данное Гессумом, куда менее информативно, чем его объяснение того, почему он стал одним из столпов современной науки.
Гессум объясняет это тем, что «предположение сверхъестественных факторов в качестве объяснения было сразу идентифицировано как "преграда для науки", конец процесса объяснения, а значит, как непродуктивный (даже контрпродуктивный) подход к процессу (поиска новых истин о природе и изобретению методов их полезного применения)».
В таком случае, разница между естественным и сверхъестественным становится вовсе не онтологической, а определяется требованиями, вытекающими из конкретной цели, и, возможно, выражается в том, чтобы объяснять непонятное терминами того, что мы делаем и чем, по крайней мере, можем манипулировать, вместо того, чтобы объяснять его терминами того, что мы не понимаем и чем не можем манипулировать.
«Если врач объясняет психическое расстройство работой демонов, он отказывается от понимания работы глубинных процессов, происходящих в мозге, и не сможет найти лекарство…», — поясняет Гессум.
Но если проводить разделительную черту предложенным образом, то определение методологического натурализма, данное Гессумом, подразумевает как раз обратное. В то время как Гессум основывает свою характеристику современного научного метода на жестком (но не имеющем четкого определения) различении «естественного» и «сверхъестественного», он предлагает, в данном контексте, «естественное» определять требованиями, вытекающими из конкретных целей современного научного метода. Но зачем утверждать, что методологический натурализм — это условное допущение существования вещей определенного рода, только чтобы затем обнаружить, что мы не можем точно сказать, что это за вещи? Вместо этого можно сказать, что мы условно допускаем то, что все сущее отвечает требованиям, обусловленным целями современной науки. Следовательно, различие между «естественным» и «сверхъестественным» зависит от целого ряда факторов. Например, от требований конкретной задачи, которые, в свою очередь, зависят от характера самой задачи.
Понимание «естественного» в разрезе методологического натурализма
Представим, что джинны (или демоны, как их называет Гессум) — это микробы.Из-за них мы болеем, но нам пока не удалось зафиксировать или наблюдать их в контролируемых условиях. В таком случае предположение, что джинны являются причиной психического заболевания, не благоприятствует изобретению лекарства. В этом смысле, это «сверхъестественное» объяснение. Но если мы в будущем разработаем способы их обнаружения и систематического изучения и выясним, что некоторые психические заболевания вызваны одержимостью демоном, останется ли тогда принципиальная причина считать это объяснение «сверхъестественным»?
Кроме того, Гессум предлагает нам серьезно задуматься над вероятностью открытия негуманоидных форм разумной жизни, вероятно, внеземного происхождения. Будет ли в таком случае объяснение исчезновения людей похищением инопланетян менее сверхъестественным, чем психического заболевания — одержимостью демонами?
Представим, что мы научным путем обнаружили существование внеземных существ, демонов, вселяющихся в людей и вызывающих тем самым психическое заболевание. В любом случае, демоны были бы гораздо менее полезны, чем микробы, в качестве объясняющего фактора для изобретения лекарства от болезни, поскольку они, предположительно, имеют сложное устройство психики, сравнимое, по крайней мере, с человеческим, а значит, их поведение с таким же трудом поддается прогнозированию и тем более манипулированию. Несомненно, это вызывает вопрос относительно того, способны ли общественные науки и экономика вообще когда-нибудь достичь статуса точных наук. Но ясно, что будет ошибкой судить объясняющие факторы, действующие в этих науках, по тем же стандартам, что и те, которые применяются в физике или биологии, потому что цели этих наук совершенно разные.
Собственно, феномены, эпистемологически пригодные в качестве объясняющих факторов, разные в каждой области. Таким образом, то, что допускается как «естественное» — и, в данном понимании, методологически корректное — от дисциплины к дисциплине будет разниться. В противном случае пришлось бы отнести, например, общественные науки, в силу их приверженности «сверхъестественным» объяснениям, к досовременным, что немыслимо.
С другой стороны, можно было бы предположить, что мы определим, что считать «естественным» конкретно в терминах, отвечающих эпистемологическим требованиям, вытекающим из задач физики, биологии и т.д. Тогда у нас было бы разумное основание не классифицировать гуманитарные и общественные науки как «естественные науки» в силу того, что они не функционируют в рамках натуралистической методологии. Но это не было бы основанием считать их «сверхъестественными», а просто означало бы, что понимание «естественного» не должно ограничиваться бинарной оппозицией к «сверхъестественному». Не все, что не является естественным, является «сверхъестественным». Кроме того, это должно означать, что определение методологического натурализма как ключевой характеристики современной науки, по сути, исключает социальные науки из современности.
Более того, цели определенной научной дисциплины как таковой не являются константой, а пребывают и, вероятнее всего, еще будут пребывать, в историческом развитии. Тогда, если наша концепция методологического натурализма привязана к конкретному набору эпистемологических требований, то нам придется либо отказаться от возможности любого дальнейшего развития целей наших наук в их нынешнем виде, либо признать возможность того, что наука сама по себе может перерасти «методологический натурализм» и, таким образом, современность.
Но по существу можно утверждать, что определенные фундаментальные цели являются универсальными. И это верно. Цель науки — установить истину, а технологий — обеспечить достижение наших задач. Непременная взаимосвязь между ними очевидна. Но это универсально и для современности, и для досовременности. В таком случае, методологическая корректность как норма в наиболее абстрактном смысле не является достаточной характеристикой, отличающей современность. Таковая должна базироваться на специфической природе целей, понимаемых как «современные», и наших представлений о корректных методах их достижения. Но не является ли это предметом для критики и развития?
Пока мы определяем методологический натурализм как условное признание только «естественных» объяснений для неких методологических целей, самый очевидный путь вперед — это определить в этом контексте «естественное» просто как своего рода объясняющий фактор, пригодный для этих целей. И все же, требуется определенная конкретизация наших представлений об этих целях и эпистемологических потребностях, которые они влекут, чтобы вывести нечто интересное и полезное в методологическом плане. Эта концепция должна быть достаточно стабильной и универсальной, чтобы служить общим методологическим рецептом, применимым в различных научных дисциплинах и открытым для критического развития в плане базовых целей и предпосылок.
Заключение
В заключение, вернемся к базовой онтологии Творца и творения и нашей задачке с привязыванием верблюда как наглядному примеру наших эпистемических и практических отношений с творением как таковым. В этом случае наша цель — понять творение сквозь призму его самого настолько, насколько это возможно. Вспомним важный момент: без должной упорядоченности творение было бы по своей природе непостигаемым, а значит, невозможно достичь наших целей в нем. Если просто невозможно представить, как поступит Аллах, если я привяжу или не привяжу моего верблюда, то любое действие в мире было бы бесплодным. Проблема индукции показывает, что мы никогда не можем знать истинную степень организации вещей. Если так, то это проблема именно потому, что если природа недостаточно организована, знания о природе невозможны. То есть, знания о мире могут быть получены рациональным путем, только если допустить определенную организацию мироздания. И это верно, независимо от возможного развития наших научных целей и базовых предпосылок. Есть ли еще какие-то определяющие параметры?
Недавно Скотт Танона (ScottTanona) предложил интересное определение естественного:
«Феномен является естественным, если он подразумевает закономерности между интерсубъективно определимыми аспектами мира, где эти закономерности ограничивают возможные значения этих интерсубъективных аспектов, допуская их прогнозирование, в том числе, при необходимости, в условиях интервенций» (С. Танона, «В поисках естественного», Philosophical Studies, март 2010).
«Интерсубъективно определимый аспект» — это просто любой аспект, который мы описываем и измеряем способом, доступным для более, чем одного субъекта (или наблюдателя). С другой стороны, сверхъестественное находится «вне любой подобной интерсубъективной прогнозируемости», так, что оно «не просто противоречит физической теории, как ее понимают в настоящее время, но находится за пределами нашей возможности инкорпорировать их в любую будущую теорию эмпирически проверяемой физической закономерности или закона».
Танона согласен с Гессумом в том, что методологический натурализм не влечет за собой натурализм онтологический. Фактически, он ясно указывает, что его собственная мотивация — отстоять различие между ними в ответ на обвинения в неустойчивости. Он формулирует это различие в терминах «внутреннего» и «внешнего» натурализма, где первый означает применение натурализма в области одной только науки, а второй относится к универсальному применению.
Внутренний методологический натурализм основывается на минимальной потребности любого научного отчета в том, чтобы устанавливать точно определенный контакт с интерсубъективными данными, и чтобы с помощью этого контакта он делал конкретные прогнозирующие утверждения по поводу других интерсубъективных данных. Он не говорит, что такой отчет будет успешным (тем более повсеместно), либо что он обязательно должен быть эксклюзивным.
Иными словами, данная формулировка методологического натурализма не сводится к позитивной позиции, что все в естественном мире объяснимо в терминах, которые в принципе поддаются интерсубъективной прогнозируемости. Это просто практика ограничения рассуждений факторами, которые действительно для этого пригодны, ради конкретной цели достижения как можно большей натуральности.
Это идеально соответствует пониманию того, что некоторые вещи либо условно, либо в принципе, не годятся для этого. Это также идеально соответствует пониманию того, что ничто из понятого нами о мироустройстве, не может ограничить реальную возможность того, что в следующий момент оно может радикальным образом измениться. Поэтому, как советовал Пророк (мир ему и благословение), если сажаешь дерево, и наступает Судный день, продолжай сажать (Муснад Ахмад).
Источник: Yaqeen Institute for Islamic Research


 Коран
Коран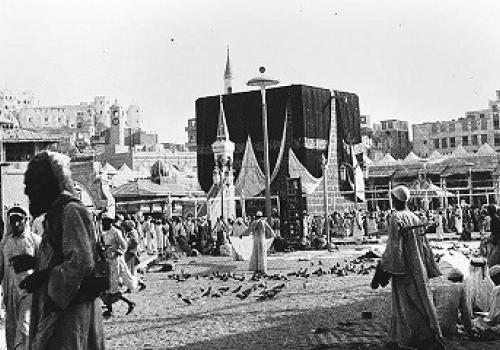











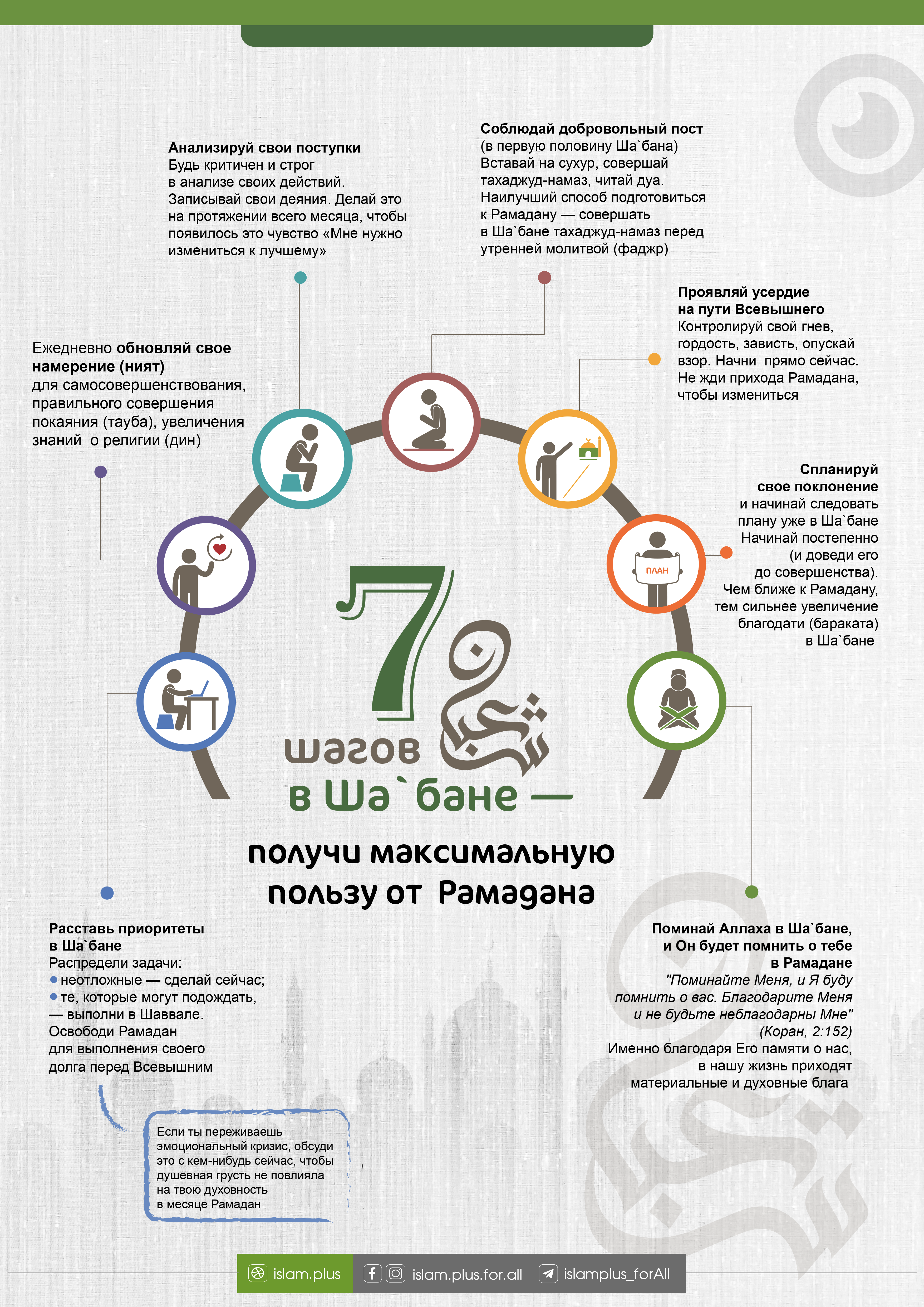
Добавить комментарий